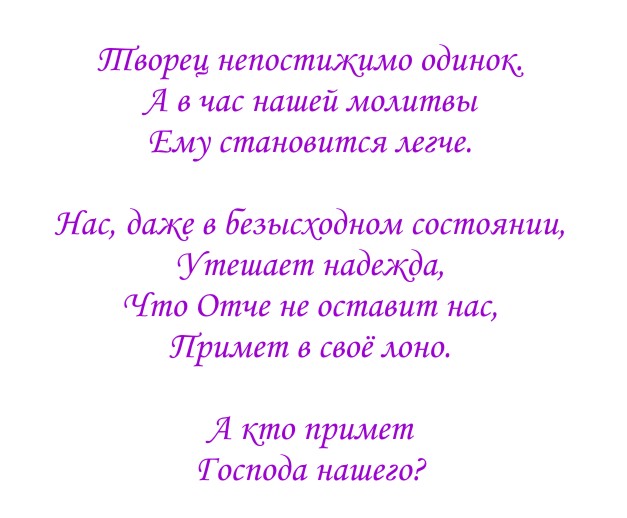|
|
Необходимое пояснение: сей трактат ориентирован на взрослых читателей, половозрелых умом и памятью, познавших доперестроечное время и колбасу со вкусом колбасы.
Колбаса ночью из холодильника а) способствует самоутверждению, б) порождает радость от бытия , в) вырабатывает философский взгляд на все. О, эти нежные волнующие розоватые диски с волшебным запахом и вкусом из детства! Нужно, чтобы нарезаны они были ровненько-ровненько, не слишком тонко и не слишком толсто, чтобы колбасные края мягко и непринужденно свешивались с ломтика хлеба, хорошо рядом огурчик – маринованный, малосольный, солененький – не суть. Ни в коем случае не на тарелке! Прямо из пакета, из свертка, чтобы сохранить элемент незаконности и авантюризма. Не надо, чтобы кто-то еще проснулся и пришел посмотреть, не надо нам этого. Собственный опыт и наблюдения показывают, что все это происходит часто стоя, с мягким притоптыванием ногой и задумчивым взглядом за темное окно, где притаился такой жестокий и неблагодарный мир. Хорошо если колбаса «докторская», если «любительская» – тоже хорошо, время, затраченное на выковыривание беленьких пумпочек, дает возможность прочувствования и познания себя.
И хлынет легкой волной из детства, и вспомнятся мама, папа, бабушка и младшая сестра (о, эта младшая сестра!), за воспитание которой на тебя налагалась ответственность, досадная и обременительная тогда, а сейчас кажущаяся легкой и приятной, что выросло, то выросло, в конце концов.
И день рождения тогда по степени важности и ожидания счастья был равен Новому Году, а сегодня – и подарков никаких не надо, лишь бы время не бежало так быстро…
Колбаса сырокопченая. Тоже очень хорошо! Вот она должна быть нарезана тоненько-тоненько, до восхитительной полупрозрачности, обязательно эллипсами, а не кружочками, можно без хлеба. Ц-ц! Но эффект другой, отличный от докторского вареного благодушия. Подстегивается воображение, перед возбужденным сознанием открывается будущее, которого не может быть в принципе, ум делается острым, всепроникающим и ироничным, причина и следствие обретают исконную взаимосвязь, а в кроссворд легко вписываются такие слова как мальтузианство и фацеция, хотя наутро опять затрудняешься. Мелькают мысли о соратниках.
Таким образом, в любом случае ночное погружение в недра холодильника приобщает нас к другим недрам, к истокам философии и постижению четырех возвышенных истин мудрого Гаутамы: о страдании, причинах его, о прекращении и пути, и еще многому-многому, что, в свою очередь тоже чревато, но об этом уже государство заботится.
21 июня 2006 г.
 Жил да был в одном городе крокодил Гена. «А работал он в зоопарке... крокодилом.» Лежал на солнце, широко раскрыв пасть, и делал вид, что спит. А на самом деле он внимательно наблюдал за посетителями, стараясь разгадать замысел Создателя. В чем, собственно, интрига? Быть может, эта мирная суета – всего лишь отвлекающий маневр, а настоящие события разворачиваются в другом месте? По вечерам крокодил Гена играл сам с собой в шахматы. Согласитесь, что играть в шахматы с самим собой – распоследнее дело. Но Генины шахматы были не совсем обычными. Ведь по сущности он был Богом, гением одной из сфер вечности. Заведовал, так сказать. Но сказать-то легко, а в чём это заведование состоит, Гена понимал бесконечно давно, хотя понимать, вроде бы, и нечего. Сфера – она и есть сфера, колобок. Что его круть-верть, что верть-круть. Поэтому приходилось придумывать специальные понятия и пытаться с их помощью разбираться. Так Гена создавал свои собственные шахматы. Прототипом одной из первых фигур, Курносика, стал забавный толстяк в поношенном костюме. Разглядывая Гену, он поднимал верхнюю губу и курносился. Курносики у Гены обладали незначительными возможностями – они смешили противника и тем вызывали его легкое смятение. Возможности Гены, как Бога, были безграничны. Он мог всё. Кроме одного – брать ходы назад.  Порой, перегревшись на солнце или хватив лишку по дороге домой, Гена начинал резаться чуть ли не в поддавки. А когда приходил в себя, материала на доске оставалось мало, причем самого завалящегося. Ведь наиболее мобильные и боеспособные почти всегда попадают под удары в первую очередь. А всякие никому не нужные Курносики и Неваляшки остаются невредимыми. После хмельных вечеров эпохами приходилось ухаживать за доской, как за подмороженной грядкой. Зоопарк давал всё меньше свежих впечатлений, и придумывать фигуры становилось труднее. Видно, не тот пошёл посетитель. Только и делают, что закусывают и выражают несложные эмоции вроде «Ах, какой ужасный крокодил!». А один, в очках, и говорит дочурке: "Вот такой и проглотил солнышко в сказке, что я тебе вчера читал." Гена разыскал эту книгу. А сказочка-то оказалась с подтекстом. Мол, если ты такой крутой, то и без солнца над головой проживёшь. Главное, чтобы оно у тебя внутри было. Но порой забредали преинтересные типы. Один, косой в дым, в панамке, которой он беспрестанно вытирал порнографическую лысину, долго сидел перед Геной, называя его «служивым», жаловался на стукача Никодимова, паленую водку и повсеместное падение нравов. Лысый череп живо напомнил Гене его сферу в самом дебюте. А лысому, судя по всему, ничего, кроме белки и инсульта, впереди не светило. Какие виды имел на него Создатель? Успел ли он сделать предназначенный ход или угодил в партию случайно? Когда панамка, допив из горла «Гжелку», рухнула рядом с ограждением, парочка милиционеров попыталась её забрать. Но не тут-то было! Лысый встрепенулся и, обзывая блюстителей «ментами», достал из кармана удостоверение. Ознакомившись с ним, сержанты судорожно откозыряли и исчезли. И Гена решил, что обязательно введёт в партию вечно пьяного, который «пьян да умен – два угодья в нем». Серенькая, несуразно ходящая фигурка, от которой никто ничего не ожидает, в определенный момент будет получать право на длинный косой ход, разом изменяющий соотношение сил. А назвать его можно Косоглотом. И порой ферзя берет Вечно пьяный Косоглот. Зимой посетителей являлось немного, в основном школьные экскурсии. Гене удалось узнать, что он не просто крокодил, а аллигатор, в отличие от гладколобого каймана-недомерка. Ещё он подслушал, что шкура его стоит бешеных денег и идет на чемоданы и обувь. Это придавало веса в собственных глазах. Не макака все-таки, годная лишь на медицинские опыты. Но течение игры замерзало. Между ходами проходила вечность. При равенстве сил необходимы свежие идеи, а их не доставало. Ошалев от скуки, Гена устраивал на доске побоища. Завалится, бывало, на бровях, и давай двигать фигуры. Через несколько ходов вместо мирного противостояния с экивоками и тонкой вязью изящных контриг наступал бедлам. Под боем оказывались все! Угроза нависала и над теми, о ком Гена думать забыл. Они воспитывали детей, копались в огородиках и мечтали о приобретении подержанного авто. Но проносилась буря, и Гена сгребал их с доски дрожащей лапой. Если вам кажется, что гений сферы должен быть лишён мелких слабостей, то попробуйте сами. Каждому по силам подобрать сферу по своим размерам и устроить всё по собственному вкусу. И вы убедитесь, что сфера недолго просуществует в мире и согласии. И вдребезги разнести попробуете её не раз, и от отчаяния маяться, и от непонимания. А жаловаться некому будет – сферу-то сами выбирали. Гена же имел сферу, как данность. Но вот приходила весна. Первый пленэр, подзабывшиеся интерьеры вольера, симпатичные одиночки-любители живой природы. А то какая-нибудь крохотуля пропищит: «Клокодилцик ты мой холосенький! Хочу домой такого!» И давай орать благим матом! Мелочь, а приятно. Партия расцветала пастельными тонами. Никаких прямых конфликтов. Улыбки, реверансы, любезные предложения дружить флангами. Да и в центре собирались по-доброму, говорили за партию. Мечтали, как оно дальше будет. Хотя все понимали, что и как именно будет дальше. И под малиновый перезвон незаметно концентрировались силы. Неваляшки не валялись, где попало, а собирались в группы. Косоглоты похмелялись, брились и даже пытались одолеть хоть что-нибудь из устава партии. Но напряжение на доске постепенно росло. Количество обоюдопозитивных ходов всегда ограничено. Гена вводил новые, прекрасные фигуры с выдающимися правами. Но в тесной суматохе воспользоваться ими не удавалось. Явившиеся по Гениному хотению и велению добрыми ангелами-хранителями, они старались ослабить давление на флангах и без лишних жертв спустить пар в центре. Да где там! К концу мая фигуры скучивались на теплых местах и сутолока достигала апогея. Хода не удавалось сделать, не наступив на чей-то хвост, хобот или суверенитет. А дальше сами знаете. Как в автобусе в час пик: слово за слово, мордой по стеклу! И вчерашние ангелы на глазах превращались в демонов. А с их-то возможностями?! Они реяли над доской, уничтожая всё на своем пути. Гена переживал, метался от края до края, но зато жил! Это вам не зимняя спячка! Наступающее лето радовало разнообразием. Многочисленные посетители, понаехавшие из провинции, относительно не развращенной массовым шоу-бизнесом, несли Гене свои теплые живые души и разные вкусности типа ножек Буша. Хотя и висели таблички «Животных не кормить!», но доброхотов-нарушителей хватало. Их штрафовали, но они реагировали достойно: "Бог с ним, зато ребёнок получил наглядный урок доброты и любви к братьям нашим меньшим!" Резня на доске понемногу стихала и переходила в центре в позиционные дискуссии, а на флангах образовывались свободные зоны. Самых ретивых из ангелов-демонов приходилось пускать в расход. Кого через самоубийство, кого в честных поединках на шпагах и ядерных томагавках. А некоторые просто спивались, узрев, до каких высот низости взлетели они от благих начинаний, и переходили в разряды второстепенных фигурантов, вроде Курносиков и Тыбышёлбиков. Гена чувствовал, что партия находится под пристальным вниманием Всевышнего. Но оценок Его не знал, а мог судить о них только по ощущениям. А они так обманчивы! Кто не пивал с друзьями водки под хорошую закуску? И не закреплял потом успех коньяком? И не лакировал все это портвейном, а затем и пивом в подворотне? И как было чудесно, какие милые, родные лица вокруг! И какое наступало потом утро... Но случается и по-другому. Работаешь день и ночь, из сил выбиваешься. Под ногтями грязь, на голове колтун, жена ушла к другому. Но приходит время урожая, расцветают розы и разом забываются неприятности. Ты бодр, упруг и готов к новым свершениям. И всего хочется: и встречных улыбок, и добрых слов. И ножек Буша тоже хочется. Гена был не злоблив и отходчив, но азартен до потери самоконтроля. Знал он это, но превозмочь себя не мог. Да и не пытался. Ведь Гена как рассуждал: "Если меня, гения сферы, таким Всевышний создал, значит, я, такой именно, ему и угоден. А начну я самосовершенствоваться да и изменю ненароком строй своей сферы, ее аккорд в симфонии хрустальных сфер и тем самым нарушу великую гармонию мироздания. Нет уж, мы лучше будем оставаться такими, какими нас Господь создал. Понемногу дружить, в меру подвоевывать." Короче, лень ему было, да и некогда. Очень трудно одновременно и партию вести и умом раскидывать. Вообще, как тонко подметил один из знаменитых посетителей, от ума одно горе и недоразумения. Того и гляди в чемоданы угодишь или пойдёшь на штиблеты какому-нибудь недоумку. Ум – он вроде лопаты или молотка: хочешь воды – выкопай колодец, хочешь орех – расколи скорлупу. А захотеть чего-нибудь с его помощью не получается. Самосовершенствование – занятие богоугодное, но не Божеское. Сколько Гена себя помнит, всё перед ним черно-белые поля, и надо суетиться, чтобы партия не развалилась. А зачем это, даже он, Бог по рождению, не знал. Однажды, обдумывая ход и внимательно оглядывая свои творения, Гена обнаружил, что, помимо его воли, то здесь, то там происходят разные события. Масштаб их был ничтожен, и влияния на течение игры они не имели. Пока Гена крокодилил, на доске появлялись новые фигуры. Начинало ощутимо попахивать авантюрой. Гена придумает комбинацию через серию жертв за белых и пытается организовать черным достойную защиту. А те срываются в неукротимую матовую атаку. Для спасения партии приходилось вводить наемных убийц, устраивать дворцовые перевороты и кровавой ценой покупать продолжение позиционного развития. Осенью холодные дожди загоняли крокодила в террариум, где он под кварцевыми лампами предавался ностальгическим воспоминаниям о дебюте  Вылепишь, бывало, фигурку из глины, а то и из кости вырежешь, поставишь на доску, подтолкнешь нежно – и вот она робко, но пошла. Первые ходы – самые обнадеживающие. Все впереди: первая любовь, первая измена, первое предательство и первая кровь, на руках или на совести. Таковы содержание и суть партии. Фигурки обретают опыт и достоинство. И любуешься ими и гордишься. А потом в роковую минуту смахиваешь их с доски, как слезы с глаз. Но наступает время, когда под носом затеваются чужие игры, и ты теряешь контроль. Уничтожить этот муравейник до смешного просто, а добиться согласованных действий не удается. Все чаще Гена садился за доску и упивался в стельку. Кому это надо, если ему, гению сферы, становится наплевать? Но осенняя слякоть сменялась благородной снежной чистотой и морозной трезвостью.  Гена засучивал рукава. В одних галактиках для стабилизации равновесия зажигались сверхновые. В других, изуродованных космическими войнами, приходилось устраивать черные дыры. И, хотя матовых угроз оставалось предостаточно, появлялись реальные шансы на дальнейшее развитие. "Какая же гадость – эта ваша заливная рыба, – почему-то вспоминал Гена, с вселенской тоской взирая на неведомые пределы сферы, – а завтра ведь в зоопарк. Смотритель опять мяса не доложит. Надо бы его ущучить слегка, чтобы не забывал, кто в вольере хозяин!"
Мне было тогда лет четырнадцать. Из окна нашего дома, что стоял на окраине деревни, на пригорке, далеко, над темно-зеленой полоской леса, был виден краешек остова какого-то сооружения, по виду башни или колокольни без купола. С самого детства я слышал, что это – колокольня Крипецкого Монастыря, и что находится этот заброшенный монастырь посреди болота, километрах в восьми от деревни. Говорили также, что в этом монастыре похоронен местный святой – чудотворец Савва Крипецкой. Так как верхушка колокольни торчала всегда в одном и том же месте, и, в принципе, было известно, что это такое, я особого интереса к монастырю не испытывал, а идти туда из праздного любопытства по болоту было далеко и трудно, да и любопытства особого не было.
И вот, в один прекрасный день, отец дал мне пальнуть из ружья. Он часто брал меня на охоту, я видел и запоминал это таинство, но оружие мне в руки он никогда не давал, это было неимоверное табу. Однажды, он поставил в развилку сосны красную пачку сигарет «Прима», отсчитал тридцать шагов, протянул мне ружье и сказал:
- А ну-ка, сынок, стрельни.
Я помню, с каким благоговением взял в руки тяжелую двустволку. Взвел курок и направил ружье в сторону красного пятнышка, оказавшегося бесконечно маленьким над планкой прицела. Ружье ходило из стороны в сторону, но я поймал момент, когда цель совместилась с прицелом, и выстрелил. Меня, конечно, слегка оглушило, да и отдача в плечо была довольно чувствительной, – позже, когда отец учил меня заряжать патроны, я заметил, что пороху он немножко перекладывает. Пачка «Примы», не шелохнувшись, осталась на том же самом месте. Со словами «Эх, мазила!» отец подошел к сосне, протянул руку к свои сигаретам и… При его прикосновении пачка рассыпалась в прах. Я угодил точно в цель. Дробь, несильно разлетевшись, прошила пачку насквозь, оставив внешнюю структуру на вид нетронутой.
- Вот, зас//нец! – сказал отец. – Без курева меня оставил…
В ту же весну я настрелял немыслимое количество уток, тетеревов и вальдшнепов, да простят меня записные любители природы, никогда не испытывавшие охотничьего азарта. Ареал моего охотхозяйства неизменно увеличивался, и я, прочесывая километры леса в поисках дичи, не мог пройти мимо монастыря. То, что я увидел, поразило меня, словно громом.
Тот далекий зеленый лес, над которым виднелся остаток колокольни, назывался банально: «Монастырским». Там водились глухари – царская добыча для любого охотника. Я много раз ходил по закрайкам этого леса, но войти в него мне никогда не случалось. Однако, рассказы об огромных глухарях, населявших «Монастырский», будоражили мое воображение, и я, желая удивить отца своими охотничьими подвигами, оказался в этом лесу. Это был действительно сказочный лес. У нас очень мало «чистого» леса, в нашей полосе лес только издали кажется «красивым», «величественным» и т.д. На самом деле – это болота, протоки, непролазные кусты, буераки, бурелом, – ни проехать, ни пройти, как говориться. Но «Монастырский» оказался совсем другим. Это был старый хвойный лес без малейшего намека на какой-нибудь подлесок. Здесь древние высоченные ели росли прямо из черной, покрытой мертвой хвоей земли, внутрь не проникало ни полоски солнечного света, и вся эта тишина, безветрие и сумрак рождали в душе какую-то настороженность, если не сказать – оторопь. Страхи всегда живут внутри нас, особенно когда ты еще мальчик, пусть даже и вооруженный. Много раз, потом, я бродил по этому лесу, выковыривал из черной земли белоснежные жирные грузди, и всегда мурашки бежали по спине от звука случайного падения шишки. А как уходила душа в пятки, когда всего в нескольких метрах, невидимый между стволами, с пушечным грохотом взлетал глухарь!
И вот я, слегка оглушенный тишиной этого невиданного леса, выхожу на поляну и вижу… Чудо! Может быть, это сильно сказано, но тогда я стоял на опушке с широко раскрытыми глазами. Если есть какое-то определение сюрреализма, то это и был сюрреализм. Прямо передо мной, в окружении близких деревьев, на сухом взгорке стоял Храм. Немного за ним высилась здоровенная колокольня. Все полуразрушенное, но сохранившее свою изначальную целостность. Собор, сложенный из розового кирпича, был просто огромен, и, несмотря на отсутствие купола, производил величественное впечатление. Колокольня, на верху которой подразумевался, видимо, тоже купол или шпиль, была еще выше.
Нижний уровень храма, куда вели несколько отверстий в стене, возвышался метра на три над землей, и был, наверное, каким-то служебным помещением, потому что лестницей или переходом с верхом никак не соединялся. Просто как будто подвал с обвалившейся кладкой. Срубив пару жердей, я заполз по стене на второй этаж и вошел в церковь. Внутри было удивительно чисто. Прямо под отверстием купола, кем-то заложенным несколькими досками, стояло нечто вроде тумбочки, на которой в граненом стакане белел пучок увядших ландышей. С высоких сводчатых стен на меня смотрели неясные, стершиеся лики. Я не знаю, сколько времени провел внутри церкви, но помню, что, когда вышел из полузабытья, оглянулся. Может быть, это был просто ветер, а может – какой-то знак, – на моих глазах стакан с ландышами опрокинулся, и цветы упали на пол…
Позже, я много раз бывал в монастыре, отдыхал под сводами храма во время многокилометровых походов в лес, прятался там от дождя, даже несколько раз ночевал. В этом месте всегда была какая-то удивительная тишина и умиротворенность. В начале девяностых все изменилось.
В нашей деревне появился благообразный розовощекий священник по имени отец Дамаскин. С несколькими послушниками он приехал откуда-то с Украины восстанавливать Крипецкой монастырь. На первых порах они остановились у моего отца, тогда обладавшего огромным кирпичным домом. Тесно общаясь со сподвижниками благообразного Дамаскина, я вдоволь насмотрелся на всевозможных проходимцев и маргиналов, искавших в православии кто теплого места, а кто – беззаботной жизни. Люди приходили и уходили, появлялись и исчезали, чаще всего прихватывая с собой что-нибудь из нехитрого имущества отца. Но процесс пошел. Вокруг монастыря, как по щучьему велению, появились аккуратные малороссийские мазанки, людей все прибавлялось, работа кипела. Я перестал бывать в монастыре. Там объявились «хозяева», и тишина ушла, испугавшись гомона голосов и лая собак.
Прошло несколько лет. Уехав за тридевять земель, я все реже навещал отца, мои визиты в деревню носили мимолетный характер. Но один раз я все-таки посетил монастырь. Бродя старыми детскими маршрутами, я решил завернуть в Крипецкой. И снова был удивлен. Я не узнал этой поляны посреди леса. В монастырь вела широкая грунтовая дорога с бетонными электрическими столбами вдоль нее. Все пространство заставлено большими и маленькими домами, огороженными высокими деревянными заборами, за которыми, лязгая цепями, хрипло лаяли собаки (по голосу, вполне серьезные). Я остановился у одной из калиток, завидев бородатого мужика в телогрейке.
- Хозяин, – сказал я. – Водички попить можно у вас?
Мужик поглядел на меня как-то излишне исподлобья, и, скривившись, сказал:
- А шо спрашиваете? С оружием, а спрашиваете.
Как будто, если с оружием, то и спрашивать ничего не надо, – без спросу бери.
А церковь с колокольней как были, так и оставались такими, как я их увидел тогда, в свой первый раз. И ландыши на могиле святого Саввы цвели все так же…
http://www.pskovcity.ru/arh_moroz3.htm/
http://pskovgo.narod.ru/pskov_13.htm/
Прожив на свете тридцать с лишком лет и вплотную подойдя к тому роковому возрасту, когда каждый уважающий себя мужчина стремится уподобиться Христу, если не в подвиге, то хотя бы в славе, ваш покорный слуга с прискорбием констатировал отсутствие в своей жизни каких-либо достойных внимания достижений.
С измальства наделенный тягой к Прекрасному и имея некоторое предрасположение к изящной словесности я тешил себя надеждой снискать славу и пропитание на поприще отечественной литературы, но, увы, надежды к упомянутым 30-ти годам развеялись как дым, оставив по себе две тонкие тетрадки скверных стихов, дюжину рассказов и пару-тройку незаконченных романов, которые и по сей час бережно мною хранятся, покрытые изрядным слоем пыли и забвения.
В младые лета, далекий от оригинальности, я пел Любовь и Венера не вправе на меня гневаться. Сколько черновиков я сжег на ее алтаре! Клубы фимиама от этих воскурений лет десять плотной облачностью окутывали равно вершины Олимпа и Парнаса, а если и есть в чем меня упрекнуть, то это количество слез, пролитых мной от любви неразделенной, несчастной, невостребованной, несбывшейся, поруганной, обманутой, высмеянной, опороченной, изжитой, оплеванной, заброшенной, забытой, неказистой, нелепой, забитой, смешной, оболганной, банальной, запитой, растоптанной и т.д., но да разве можно эти слезы вменять в вину столь искренне влюбленному, каковым я повсеместно и всенепременно являлся.
Если б вы знали, милостивые государи, какие танталовы муки я испытывал, подыскивая рифму к слову «любовь», то не стали бы говорить, что гора родила мышь.
В именительном падеже я писал вновь, кровь, морковь, бровь, свекровь, готовь, прекословь, не прекословь, Степанова Любовь, сквернословь, славословь, обусловь, “Сельская Новь” в творительном новью, кровью, морковью, бровью, свекровью, сословью, сквернословью, соловью, славословью, коровью, кротовью, церковью, сыновью, гнездо вью, гнездовью, изголовью, Просковью, слоновью, “Сельской Новью” и в остальных крови, брови, зови, отрави, задави, визави, урви, шурави, лови, удиви, живи, не криви, оторви, Степановой Любви, чем наверняка привнес толику новизны и свежести, изящества и красоты в анналы русского стихосложения.
Но, как это ни грустно, годы летят, наши годы как птицы летят. Со временем стал замечать я, что Любови мои становятся чересчур рассудочными, ворчливыми, вялыми, словно после изрядной попойки; на их бедрах и животах уже подрагивал лишний жирок, там и сям стало заметно отсутствие зубов, в мягких вьющихся локонах заблестели нити седины, а по ночам вместо сладострастного шепота и разжигающих плоть стонов я все чаще слышал храп и кряхтение.
“Все проходит, друг мой, – сказал я сам себе, отворачиваясь и кутаясь в одеяло. – Пыл угасает, блеск новизны тускнеет, душа пресыщается, тело увядает.”
С такими умонастроениями оставаться певцом Любви долее я не мог и если Любовь, как основная тема моего юного творчества, была подсказана мне сердцем, то следующий предмет своей литературной страсти я выбирал рассудком.
Известно, милый читатель, в какой многострадальной, обуреваемой потрясениями, ввергнутой во всевозможные коллизии, бурлящей и беспокойной стране мы с вами имеем сомнительное счастье проживать. Понять загадочность русской души еще не довелось никому, предугадать пути развития того или иного события в России невозможно и не пытайтесь, выводы, которые из этого можно сделать, противоречивы и неисчерпаемы. Это ли не благодатная почва для растущего литературного таланта, это ли не возможность засверкать мыслью, объять необъятное, воплотить в животрепещущих строках все перипетии борьбы и поиска на тернистом пути к вечному благоденствию, процветанию и счастью? Но, черт побери, как мне было угнаться за нашей жизнью!? как мне было успеть за отечественными политиками!? как мне было выдержать темп рекордно быстрого оскотинения масс!? А коллеги? Я был бессилен конкурировать с целым сонмищем моих литературных коллег, успевавших за то время, пока я еще только приглядываюсь к теме, накропать и обнародовать свои опусы о кошмарах ГУЛАГА, о расстреле царской семьи, о любовниках Екатерины, о разгуле антисемитизма, о миссии интердевочек в покорении Запада, о дедовщине в армии, о беспределе преступности, о засилии евреев, о продажности коммунистов, о неподкупности демократов, о темных страницах истории, о совершенно секретном, об эмиграции и эмигрантах всех волн, о красивой и собачьей жизни новых русских, о неподкупности коммунистов и продажности демократов, об интимной жизни звезд кино и эстрады, об Афганистане и Чернобыле, о любовных похождениях вождя мирового пролетариата, о добродушии маразматика Брежнева, о России для русских, о золоте партии, о зловещих щупальцах ЦРУ, об еще более зловещих щупальцах КГБ, о разгоне ГКЧП, о казнокрадстве, о коррупции, о развале промышленности и крахе сельского хозяйства, о наркоманах, о возрождении Православия, о транссексуалах, о мракобесии религиозных сект, о пьянстве, об интригах в высших эшелонах власти, о заказных убийствах, о детской проституции, о черной беспросветной жизни! Я не стоял, выбирая и принюхиваясь, подобно буриданову ослу, я метался от темы к теме, но тщетно – все захватили, застолбили, описали, скомпилировали, обработали и обкорнали! Высказаться о чем-либо, не накликав на себя обвинений в повторениях, заимствованиях или, даже, в плагиате, стало положительно невозможно.
"Где великое? – возопил я. – Где нетленка? Куда подевались вечные темы?”
Злободневность, оперативность, скандальность, сексуальность, претенциозность – Господи, это не тот навоз, который может послужить для меня удобрением! Я чах!
Я и в самом деле чах. Все реже и реже выходили из под моего трепетного пера строки, полные силы, все чаще и чаще взгляд моих умных проницательных глаз застывал на чистом листе, все глубже и глубже погружался мой тонко организованный ум в бездну уныния и мрака. Я даже был вынужден работать руками, господа! Оглушительный провал, полное фиаско!
Понимание своей несостоятельности, обусловленной не отсутствием у меня писательского таланта, а временем, этапом мировой истории, отодвинувшим общечеловеческие ценности на задний план, очень сильно подорвало мое и без того хрупкое здоровье. Я впал в длительную депрессию, безуспешно оглушая свой агонизирующий организм колоссальными дозами алкоголя; я стал мистиком, готовым верить в Бога, в черта, в Кашпировского, в провидение, в инопланетян и приметы; я неделями не включал телевизор, с опаской косясь в его бездонный черный экран; я молотком для отбивания мяса убил свою кошку, дабы она, прохаживаясь по комнате, не перешла мне дорогу, а в грозу, когда над моей квартирой оглушительно грохотала от ветра и дождя железная крыша, я, заткнув уши, метался из угла в угол и декламировал стихи, рождающиеся у меня экспромтом:
У Потапа было тело
Без прыщей и очень белым,
Что Потап с тем телом делал,
То для нас и не секрет,
Только так сложилось дело – Тело то давно истлело,
Ну а если нету тела,
То Потапа тоже нет.
Ну а что ж душа Потапа?
По ухабам, по этапам,
Где тихонько, где нахрапом
В рай отправилась душа.
Ну а как ей там живется,
Как ей естся, как ей пьется,
Как грустится, как поется
Мы не знаем ни шиша.
Видите, дорогие мои друзья, даже в минуты, казалось бы, полного безумия я размышлял о жизни и смерти, о тщете и надежде, о преходящем и вечном. Это ли не свидетельство того, что и в бреду болезни мое подсознание хранило веру в торжество разума, что жила еще во мне созидающая энергия творчества, ибо любовь к слову неистребима в человеке, как неистребим запах ног.
Фонтанирующий замыслами, с новыми силами бросался я в пучину Вдохновения, рассекая мрак, словно исполинский Моби Дик. Болезненное возбуждение принимал я за откровение, снизошедшее на меня, и безуспешно пытался я в водовороте видений попасть в ламинарный поток Прекрасного, в калейдоскопе образов отыскать хоть одну завершенную картину. Беря трясущимися руками свои черновики, я каждой клеточкой трепещущего сердца ощущал неизбывную боль, которая словно бесконечная волна захлестывала меня, напоминая об ушедшей юности. Как мне хотелось воскресить в себе былые порывы, захлебнуться их звенящим потоком. Когда я был юн и смел, когда неукрощенными тиграми метались в моем мозгу мысли, мне хватало безрассудства и озорства перенести их в тетрадь, облечь в сонеты, или запечатлеть в рисунке. Но теперь, вглядываясь в прошлое пожелтевшими глазами, я видел – Они умерли – мои мысли! Они стали ничем, они остались просто сонетами и рисунками, они не воплотились, они не поднялись до эпического, до вечного, до бессмертного.
“Что ж, – сказал я. – Не бывает прекрасного без дерьма, не бывает цветов без терний и творчества без разочарований.”
В то тяжелое время познал я настоящую верность и подлое предательство, истинную дружбу и холодное равнодушие, искреннее сочувствие и злорадство, скрытое под личиной участия. Фортуна бесповоротно стояла ко мне задом и будь она избушкой на курьих ножках, я знал бы, что предпринять, а при данном стечении обстоятельств мне оставалось лишь уповать на анестезирующее средство, продающееся с акцизной маркой на горлышке. Многие отвернулись от меня, видя, что мне не дается успех, но были и другие, протянувшие мне руку помощи. Я прощаю первых и благодарю вторых, ибо сегодня я на коне. Благодарю свою Пенелопу за ее бесконечное терпение, благодарю Валерку и Борюсика, благодарю гл.бухгалтера ООО «Простор» и, пользуясь случаем, хочу передать им привет и пожелать здоровья (Привет всем!!!), ведь с их помощью, их усилиями, увещеваниями, уговорами, проклятьями и посылами я был заново рожден на свет, чтобы еще раз доказать всем маловерным, малоимущим и малоумным, что нет таких преград на пути к успеху, которые невозможно преодолеть; доказать, что успеха достойны ВСЕ!
Выздоравливал я тяжело и не вдруг. Понужаемый моими верными друзьями и единомышленниками, беспрестанно твердившими мне о необходимости взять себя в руки, не отчаиваться, не распускать сопли и верить, что каждому хотя бы раз в жизни должно повезти и просто нужно этот шанс не упустить, я маленькими шажками двигался к своему триумфу. В один из тех редких дней, когда я был особенно трезвым, захотелось мне просмотреть на свои вещи из раздела “неопубликованное”. Сколько раз, словно фанатик-палеонтолог, я приходил на эти развалины человеческой мечты, сколько раз осторожно растирал в пальцах прах повергнутого самолюбия, вместо того чтобы раз и навсегда отряхнуть его с ног своих и идти далее. Ах, как трудно нам отказываться от своих ошибок и заблуждений! ах, как хочется верить, что ни что на земле не проходит бесследно! Я читал почти забытые строки, словно нюхал увядшие цветы. Просмотр сего паноптикума ничем выдающимся меня не оплодотворил, но именно тогда в моем подсознании что-то сдвинулось, что-то съехало (крыша?) с места и перед моим мысленным взором запылали слова НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!
Я не знал, радоваться мне или скорбеть. Тридцать лет я ошибочно думал, что нужно писать о кошмарах ГУЛАГА, о расстреле царской семьи, о любовниках Екатерины и т.д. и т.п. (см. выше), а оказалось – писать нужно о человечище, о человеке, о человечке, о человечишке, а иначе будешь напрасно гореть, воспаряя в творческом экстазе к горнему свету, напрасно страдать, возвращаясь с высот Парнаса на грешную землю и находя ее более худшей, чем она была до твоего воспарения.
Радоваться или скорбеть?
Я радовался, найдя свою вечную тему и приговорив себя к ней, я скорбел, как и прежде не зная, о чем писать. Человек в мире, мир в человеке – что важней, что истинней? Сколько копий сломано в битве, которая должна решить эти вопросы, в битве, начавшейся с рождением первого поэта и длящейся по сей день. К какому лагерю мне пристать? И смогу ли я? И стоит ли?..
Все самое прекрасное и благородное и самое ужасное и подлое уже сделано и описано. Обо всем самом высоком и самом низменном уже рассказано. Остаются нюансы, вариации, не обогащающие основную тему, виртуозные аранжировки, хитроумные перестановки слагаемых. Человек – с головой, двумя руками и двумя ногами – исчерпан. Любовь воспета и низложена, ее вознесли до захватывающей дух высоты и святости, ее же уровняли с пошлостью и грязью. Да здравствует способность человека не останавливаться! Дружба... Долг, неподкупность, гордость, чистота... Здесь нечего добавить, не повторившись. Предательство, низость, ложь, порок... Как много всего в человеке, как он глубок!.. Но его исчерпали... Человек пожертвовал свое тело и свои чувства. Он стал демонстрировать себя и рассказывать о своих переживаниях и, в конце концов, он показал все и обо всем поведал. С некоторых пор он повторяется и, бывает, повторяется гениально! Ну что ж, я этому рад. Человек не нашел для любования ничего достойнее себя и он прав, очень прав! И да здравствует способность человека не останавливаться! Даже сильные пороки прекрасны и захватывают воображение! Почему бы человеку не полюбоваться какой он ужасный? Гармония уродства, изощренность подлости, величие страха, а затем справедливое негодование, суровая кара, вечное проклятие, очищающее раскаяние! Восхитительно!!! Ищущий человек, мятущийся человек, борющийся человек, человек всесильный, непримиримый, раздавленный, воскресший, великий, посредственный, противоречивый, целеустремленный, совершенствующийся, спрашивающий, деградирующий, БЕССМЕРТНЫЙ... Человеку досконально известно каким он может быть. Человек исчерпал сам себя. Стоит мне повернуть голову и взглянуть на корешки книг, стоящих на полке, чтобы понять – это так. Передо мной все человечество – от Адама до моих современников, – все сословия, все человеческие типы, все мыслимые чувства и поступки. На столах писателей, а не в анатомических залах, препарирован человек. Достойные и недостойные черпали из него и вот он исчерпан.
Но вспомните – ЧЕЛОВЕК НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НИКОГДА!!!
Так как, поправляя здоровье в предыдущие дни, я сильно поиздержался, мне пришлось воспользоваться загашником, который смастерил я в туалете во время ремонта квартиры тайно от близких, дабы не вводить их во искушение, и в этом загашнике со времен своего прошлого относительного благополучия хранил несколько тысчонок (не подумайте, ради Бога, что это не весть какая огромная сумма). Там-то, в темной, вонючей и пыльной дыре за кафельной нежно-кофейного цвета плиткой обрел я свое спасение. Шаря жадной рукой в смеси паутины и опилок я подумал: “Вот сейчас бы найти здесь рукопись, тайное послание, причиндалистый дневничок! Не в бутылке найти, не в Сарагоссе, не в сундучке, а здесь, в загашнике.”
Мое желание хоть что-то найти было настолько сильным, таким всепоглощающим, так безоговорочно исполнимым, что это что-то просто обязано было материализоваться и попасть мне в руку, но там не было ничего, даже тех денег, которые я сам туда когда-то заначил.
Вы думаете, меня это обескуражило? Не-е-ет, милые мои, ничуть не бывало! Уж чего-чего, а куражу у нас у всех хоть лопатой греби.
Дай, думаю, сам!.. Рукопись-то!.. Ах, рукопись!.. Напишу и скажу нашел. Ведь мог же найти! Мог. А написать – раз плюнуть или у меня руки не оттуда растут? Начнут придираться, так с меня спросу нет – нашел я ее – за всех отвечать не намерен. Скажут – «украдено здесь», отвечу – «не мной украдено», скажут – «здесь не ново», скажу – «а я здесь причем?», заметят – «банальщина, общие места», парирую – «в Евангелии их хоть отбавляй», засмеются «дурак писал» – покиваю «в том и прелесть».
Настолько меня эта мысль захватила, настолько свежим ветром вдруг пахнуло на меня из дыры, что и по сей день грудь мою теснит восторг, переживаемый мной с той самой минуты, как стоя на унитазе, я сунул руку в загашник! Возлюбленные читатели мои (надеюсь, вас будет несколько), через несколько мгновений перевернув страницу вы окунетесь в чувства и мысли немного смешного, немного грустного, ветреного, по большей части невоспитанного, а кое в чем откровенно дурного человека. Всмотритесь в него внимательно – за его грубыми выходками, жестоким ерничаньем спрятана нежнейшая душа ищущего, но не находящего, спрашивающего, но не получающего ответа. И каким бы странным это не показалось – может быть вам покажется, что он чем-то похож на вас. Дай Бог, чтобы такого сходства было как можно меньше.
За сим смиренно умолкаю и желаю вам получить от прочтения сей муры такое же несказанное удовольствие, какое получил я сам в процессе ее написания. Вечно ваш, Dmitry.
Железо сдохло. Первые симптомы появились задолго.
Сначала ко мне на систему, после рутинного апгрейда, прочно сел назойливый баг от самого «Микрософта». Хреновина периодически напоминала о себе всплывающей мигалкой на десктопе, жизнерадостно оповещая, мол, Windows мой – столь неожиданно для них оказалось – как ни странно, ворованный, а это, в свою очередь, может вызвать сбои, неполадки, некорректное отображение, и даже повлечь за собой заражения. Правда, высказались на эту тему они очень изящно: «This copy of Windows is not genuine».
Спустя какое-то время из Корзины перестали по четкой команде окончательно и безвозвратно стираться два файла с непроизносимым названием, незапоминающимся номером и неизвестным расширением. Задача «Очистить корзину» не выполнялась до конца: поперек дороги, как восставшие из ада, возникали в траурной рамке на пыльном фоне мистический «hhewtyi4&42.gol» и таинственный «recrut 0_2,97.vip» с приговором «Не удаляемо».
Глюки не мешали, но раздражали, хотя и были терпимы.
Потом машина стала дольше и тяжелее приходить в себя после обработки антивирусом. Мне не известно ни одного случая безумной любви компьютера к Касперскому, но моя старушка обычно, после покрытия ее этим воякой, подскакивала, как нимфетка на подножку, а тут – диском трещит, огни выпучила и пыжится! Даже мышь повесилась… Аппарат отходил от проверки каждый раз так, словно после аборта с трепанацией.
Браузер стал тормозить систему, хотя сам Интернет реагировал шустрее обычного. Свойства папок самопроизвольно включили установки по умолчанию. Даже заставку клинило! О том, чтобы запустить какое-нибудь серьезное приложение не могло быть и речи: все, что было тяжелее архиватора, работало как шпион-вредитель – с энтузиазмом, но бесцельно, поскольку практически ни одно задание не выполнялось в полном объеме и в должной степени. Потом Материнка перестала видеть крупные внешние устройства: сканер и принтер включались и чуть слышным нетерпеливым рокотом рапортовали о готовности, но машина ничего не пускала на печать, а вместо этого противным казенным стилем извещала, что возможности, да и достойной причины выдать нам эту бумажку нет, сопровождала отказ ссылкой на технологические несоответствия в динамической библиотеке такой-то, неразбериху в драйверах и, вполне удовлетворившись мотивировкой невозможности выполнения задания, игнорировала все аналогичные указания.
Последней каплей явился фокус с питанием. Досадливо плюнув, я распорядился отключиться. Windows вежливо простился, машина мигнула и... перезагрузилась! Windows поздоровался с издевательским радушием. Я повторил приказ о выключении. Компьютер перезагрузился. Это произошло еще дважды, а больше я решил не рисковать. Надо было что-то делать, и поскольку подозрения на какой-нибудь вредоносный червь, окопавшийся в машине, были весьма небеспочвенны, то по тревоге был поднят, разумется, Касперский. Я дал ему последний шанс, а машине – надежду. Себе я оставил скепсис.
Героически взгромоздившись на систему, антивирус с плохо скрываемым кровожадным удовольствием запустил глубокий анализ, достав, наверное, аж до DOS-а. Спустя сорок минут все было кончено. Операционка лежала в полном отрубе, Каспер прощально мигал сообщением о том, что проверка проведена успешно и никаких аномалий замечено не было, кнопки клавы реагировали писком, а процессор был зловеще и непривычно тих. Компьютер таращился стеклянным глазом теплого покойника.
Самый страшный вирус – Windows, подытожил я, прижал ладонями сразу несколько клавиш, пнул пальцем мышку, кивнул, потянул шнур из розетки и вышел в люди.
Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Левит, 19:56.
Жил один человек, который делал скульптуры. А неподалеку, жил еще один человек, который писал картины. Людям нравились его картины, и он написал, наверное, тысячу полотен. А в положенный срок – умер, овеянный славою. Скульптор же не получил признания. Он в отчаянии разбил все свои работы и тоже умер, но, от горя и пьянства.
Прошло сто лет. Тысяча картин счастливого живописца, и десятки тысяч копий с них, заполнили выставочные залы и частные коллекции. Но, люди, почему-то, перестали восхищаться ими.
К тому же, нашлась одна, чудом сохранившаяся, терракотовая статуэтка, работы того, несчастного скульптора, который умер безызвестным. Её выставили в Лучшем Музее, её красотой восторгались и называли совершенством.
В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и маленькие.
Второзаконие, 25:13.
История двух художников, ничем не примечательна, можно даже сказать – тривиальна. Обращает на себя внимание лишь одно обстоятельство: фигурку из терракоты сделал не скульптор-пьяница, а прославленный живописец, подражая своему коллеге. Но, так как, его ценили больше, как пейзажиста, терракоту он почти ни кому не показывал. А через сто лет, обо всём этом, знаю только я, да теперь ещё вы.
Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден Ему
Притчи, 11:10.
Человечество ошиблось, и ошиблось дважды. Один раз – не признав таланта спившегося скульптора. Другой раз – приписав ему чужую славу... А может быть, ошибаюсь я – наш скульптор, действительно был посредственностью и по праву занял место в черной бездне неизвестности? А чтобы скульптура называлась Совершенством, действительно необходимо было приписать ей чужое авторство? Может быть, ошибаюсь я... Человеку свойственно ошибаться.
Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое – мерзость перед Господом.
Притчи, 20:10.
Да и так ли уж важен автор того или иного произведения? Так ли важны личности? Ведь, всё созданное ими, будет брошено в громадную, бушующую огнем печь, чтобы там сгореть без следа или же – сплавиться в единый, великий монолит Вечных Ценностей. В глобальное наследие человечества, в Золотой Фонд цивилизации, в глыбу, которая называется – Мировая Культура.
Мерзость перед Господом – неодинаковые гири, и неверные весы – не добро.
Притчи, 20:23
В нашем случае – что является «дровами» для бушующей печи Времени? Холсты или терракотовая фигура? Или разбитые творения пьяницы? А что станет, той бесценной каплей, тем атомом, который навсегда сольется с Монолитом Мировой Культуры? Статуэтка или пейзажи? Как узнать? Чем измерить?
Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат.
Иезикиль, 35:10.
Статуэтка, о коей мы ведем речь, сделана на классический сюжет – обнаженная Диана (или Венера). Выполнена, весьма тщательно, без излишеств, но... Впрочем, художественные достоинства, мы будем взвешивать на других весах и в другой раз. А сейчас… Сейчас, скажем, что скульптура эта, до сих пор находится в Лучшем Музее, до сих пор вызывает восхищение, и, что появилось уже несколько недурных копий...
Верные весы и весовые чаши – от Господа, от Него же все гири в суме.
Притчи, 16:11
Терракотовая статуэтка, авторство которой с достоверностью установить невозможно; скульптура, которой, в общем-то, и не существует, породила поток оценок и суждений, вылившихся на этих страницах в лёгкое, почти невесомое эссе. Эссе, настолько иллюзорное, что, когда я бросаю эти листки в горячую пучину Мировой Культуры, они, ещё не достигнув дна, превращаются в порхающий, серый пепел.
Талант – самая крупная единица массы и денежно-счетная единица в
Древней Греции. Один талант равнялся 26,2 кг.

Граф Л.Н. Толстой был писателем не по призванию, а по велению сердца. У него вечно чесались руки. Первый опус он сочинил еще в утробе матери, тоже Толстой:
Буря мглою небо кроет…
Картежник, бабник и дуэлянт, а также красно солнышко русской поэзии (и когда люди все успевают?) А.С. Пушкин задним числом позаимствовал эти строки, будто бы их ему напела Арина Родионовна Каренина. Но сейчас и ребенок знает, что Арина Родионовна стихов не писала. Она играла на балалайке и пила горькую и, кстати, чуть не споила маленького Сашу.

Ребенка три года лечили от алкоголизма пиявками. После чего он и начал писать. Но это не мешало оставаться ей настоящей русской бабой. Каренина на ходу останавливала арабских жеребцов за заднюю ногу, проверяя на растяжку. Именно ей Некрасов посвятил:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу введет.
А Толстой и вовсе вывел Арину в образе развратной волчицы высшего света, которой и так не эдак, и эдак не так. Вот уж воистину «Когда б вы знали, из какого сюра…». Но это было несколько позднее утробы.
Лев Николаевич долго не подозревал, что он великий русский писатель. Однажды он, высунув от усердия язык, строчил матерные частушки, готовясь к вечерним посиделкам на завалинке. Ими граф собирался конфузить и соблазнять дворовых девок. Занятие поглотило его полностью, и он не заметил, что в комнату на цыпочках вошли Герасим и Муму. Герасим по-над графским плечом быстренько ознакомился с образчиками творчества раннего периода и, вскипев от негодования, выхватил похабщину из-под Левиного носа и порвал в клочки. При этом, по документально подтвержденным свидетельствам очевидцев, он вроде бы промычал:
- Да ты, м-му-у, никак, художник слова!
А Муму, почувствовав искреннюю взволнованность хозяина, разодрала Льву Николаевичу портки и, на всякий случай, испортила обувку.

С тех пор он ходил босой, а в народе слова «босой» и «Толстой» стали синонимами.
Граф уважал Герасима за прямоту и виртуозное владение метлой. А Муму панически боялся. После чудесного спасения дедом Мазаем, которого надоумил Некрасов, Муму вымахала с теленка и в одиночку брала волка. Ее остерегались даже медведи и старались лишний раз не попадаться на глаза.

Узнав от Герасима, что он писатель, Толстой дальше писал уже безостановочно, лишь изредка прерываясь на еду и сон, гульбу и охоту и пр. Женитьба не остудила его творческого зуда. Наоборот, жене его, Софье Андреевне, льстило быть женой великого русского писателя. Хотя она и ходила перманентно беременной, но черновики мужа переписывала набело с удовольствием. Ей очень хотелось, чтобы он советовался с нею относительно сюжетных коллизий, но граф ревниво относился к своей музе и, будучи старым артиллеристом, никого к ней и на пушечный выстрел не подпускал.
Притомившись от красочного изображения панорамы русской жизни и бичевания ее недостатков, Лев Толстой обычно являлся на женскую половину и, незаметно подкравшись к занятой переписыванием его черновиков Софье Андреевне, овладевал ею. После чего, как истинный патриот и гражданин, устремлялся в рабочий кабинет и, понукаемый совестью, заносил в дневник:
«Сегодня, проходя через комнату Софьюшки, опять сделал это. Господи, наставь меня на путь истинный…» и пр. с указанием даты и времени. Некоторые исследователи насчитывали до семи записей на одну дату. Софья Андреевна, конечно, уставала от такого мужеского участия в ее нелегкой судьбе жены великого русского писателя. Тем паче, что набеги Левушки мешали ей отбеливать его черновики – руки потом дрожали.
Отсутствие противозачаточных средств и свойственная графу безграмотность привели к неконтролируемой рождаемости. Он и сам порой забывал, сколько у него детей. Если к этому прибавить дворовых пацанов и девчушек, то можно представить, в каких нелегких условиях приходилось творить писателю.
Но оказывается, как выяснилось из недавно обнародованных воспоминаний Е. Буттер, горничной девушки Толстых, Лев Толстой детей любил. Он постоянно писал для них поучительные сказки и побасенки. Дети же графа за это ненавидели и злостно уклонялись от встреч с ним. Напишет он сказку и тут же требует, чтобы собрали детей, штук двадцать-тридцать. Да где там! Малыши как-то заранее умудрялись вынюхивать, что он опять настрочил, и, натурально, всех предупреждали. Но граф был человеком неуемных страстей, и, уж если что задумает, то не отвяжется. Поэтому детей добывали в окрестных полях и перелесках с борзыми и гончими. Пусть не тридцать, но пяток-другой с облавы всегда привозили. Софья Андреевна отмывала их в уксусе от навоза, стригла и привязывала к стульям. Многие из ребятишек под влиянием этих коллективных прослушиваний, повзрослев, или спились, или пошли на каторгу. А некоторые даже стали писателями-соцреалистами, прости его, Господи!

Еще Толстой любил, обдумывая очередную главу, гулять по деревням и учить крестьян, как надо хозяйствовать. Как-то раз он проходил мимо пивной и очень верил, что русский народ способен на многое. Особенно, если ему растолковать и показать. А русский народ тем временем, в лом пьяный, валялся в придорожной канаве и блевал натощак.
Несмотря на вспыльчивость, Лев Николаевич никого не убил до смерти, потому что крестьян рвало от его нравоучений, и они посылали его в жопу или еще куда. Чтобы смягчать последствия своей просветительской деятельности, Толстой построил народную больницу, где народ лечили от ушибов и переломов. Софья Андреевна сама пользовала пострадавших свинцовой примочкой, накладывала шины и гипсы и пускала на бинты старые исподние юбки. А граф, одной рукой сжимая пудовую трость, инкрустированную под старину, другой потчевал народ касторкой.
Но и ему иногда перепадало, особенно под старость, когда память стала уже не та. Поэтому Лев Толстой создал философское учение, известное как толстовщина. Он призывал после получения удара по левой щеке подставлять сразу правую. Но крестьянам этого не хотелось, и они, чуть что, хватались за топоры и пускали петухов.
Но у графа нашлись последователи.

Они собирались в Ясной Поляне и устраивали бои «стенка на стенку». Выигравшим считался тот, кто успешнее высовывался и подставлялся. А свинцовую примочку Толстые заказывали в Германии пудами. После боев стенки дружно устремлялись в графскую столовую к борщу и котлетам. Котлеты Софьи Андреевны славились по всему уезду. Их съедали сотнями. Лев Николаевич, работая над очередным романом, всегда держал под столом большую кастрюлю с маленькими, с хрустящей корочкой котлетками. Подобная диета понуждала его то и дело бегать на женскую половину. А в результате роман топтался на фразе «И графиня опять ударилась в слезы…». Да и детей развелось – не продохнуть. Куда не сунешься, сидят на горшках и ковыряются в носу столовым серебром. Толстой, хоть и любил детей сильно, но не до такой же степени! Поэтому Софья Андреевна как-то поведала мужу о вегетарианстве, а также о любви к братьям нашим меньшим. Вегетарианство заинтересовало графа с просветительской точки зрения. Но к братьям он отношение не изменил, потому что Муму вечно торчала во дворе и старалась ухватить его за задницу. Угрюмый же Герасим ни за что не соглашался отдать ее на китайскую границу в качестве Джульбарса.
Толстоведы выудили на свет Божий весьма любопытный факт – Лев Николаевич Толстой оказался турком-месхетинцем. Его прабабка была молдаванкой с Привоза, а прадед – толстенным сумистом, героем Халхин-Гола. Недаром граф всю жизнь призывал, как Христос, возлюбить ближнего. За это попы и предали его анафеме. Русский народ был возмущен. Он не читал Толстого, но понаслышке знал, что это почти то же, что и Горький. А Горького любили и постоянно звали его всем миром.
Горький величал Толстого матерым человечищем. Хотя он всех так дразнил. Заявится, бывало, к террористу Ульянову-Ленину и давай его злить:

- Что, глыба? Что, матерый человечище, выходит у тебя построение коммунизма в отдельно взятой напрокат стране?
Ульянов, хоть и отличался колоссальным умом и звериной сообразительностью, но обижался и заявлял, что это его фирменная примочка. Но, поди, докажи, когда у Горького каждое слово записывалось.
- Слушай, Пешков, а не пошел бы ты на Кап’ги! – частенько посылал он Горького.
Впрочем, Горький и так оттуда почти не вылезал. Его с Капри за уши вытянуть было невозможно. Он прятал их под кепку и по-солдатски коротко ухаживал за каприйскими горничными. Те тянулись к Горькому за непомерные усы и мужское достоинство. На Капри и сегодня можно встретить окающих усачей в кепках.
А Толстой Ульянова не привечал. Тот однажды, спасаясь от преследований царских сатрапов, заехал в Ясную Поляну, думая, что там наши. А там оказался Лев Николаевич с женой и табором детишек. Террорист прошелся по дому и, наткнувшись в прихожей на старое зеркало, долго вертелся перед ним, стараясь укрыть остатками шевелюры раннюю лысину. Потом же заметил:
- Что это у тебя, б’гатец, зе’гкало так мухами зас’гано. Неп’гилично – ведь г’гаф все-таки.
А позднее в одной из своих скандальных публикаций злопамятно обозвал Толстого зеркалом русской революции. Поэтому Лев Николаевич всегда был решительно против революционных методов борьбы с произволом и насилием и везде, где бы ни появлялся, сразу выставлял вперед левую щеку. Но его никто не трогал, потому что в правой руке граф всегда тискал любимую трость. Еще он хотел набить Ульянову-Ленину морду за оскорбленную честь, но не успел – тот смылся в Швейцарию, где не вылезал из пивных, называя их явками.
Толстой считал, что каждый честный интеллигент должен уметь пахать землю и владеть каким-нибудь ремеслом.

Сам он по весне частенько становился за плуг. Лошади опасались могучего старика за то, что он мощно напирал на ручки и частенько подрезал им лемехом ножки.
Долгими зимними вечерами Толстой увлекался сапожным делом. Он еще в детстве решил пойти нищим по Руси и хотел сшить себе сапоги. Но в силу слабого по старости глазомера сапоги вышли маловатыми на его растоптанные по деревенским дорогам ноги. Граф хотел их подарить кому-нибудь, но стеснялся. Так и остались сапоги не ношенными и сегодня экспонируются в музее-усадьбе Ясная Поляна.
По этой причине бродяжничать он отправился босым. А дело вышло таким образом. Осенней ночью граф, как верный муж, попытался выполнить свой долг. Но Софья Андреевна, совсем уже седая старушка, в сердцах воскликнула:
- Да когда же ты, кобель проклятый, уймешься на конец?!
Граф обиделся и пошел по Руси искать правды. Ему давно хотелось конкретно узнать, кто виноват, и что делать. Хотя Чернышевского Толстой не признавал, считая, что тот разбудил Ленина, который и обозвал его засраным зеркалом. Простудив ноги, великий русский писатель сильно захворал и скончался вдали от пенат, оставив нам богатейшее наследие из книг, детей и самодельные сапоги. И пусть Ильич ругался на него – сам-то так и не устроил мировой революции на отдельно взятой планете. А хвастал! За что, собственно, и угодил в гербарий.
Друзья, товарищи, господа! Идите в библиотеки, берите книги Толстого и читайте их запоем. Их там много – на всех хватит.
Мы познакомились первого мая в травмпункте. Прямо первая строчка для городского или даже жестокого романса, правда? Я, опьянённый весной, забыл о том, что люди не летают, и подозревал, что заработал в неравной схватке с асфальтом сотрясение мозга (как в анекдоте: был бы мозг — было бы сотрясение), а она сидела в дальнем углу и тихо плакала. Рентгенолог, чтоб было удобнее делать снимок, попытался разогнуть её вывихнутый локоть, а когда увидел полившиеся от боли слёзы, обозвал истеричкой и выгнал в коридор успокаиваться. Меня тогда поразило, как красиво она плакала (забегая вперёд, скажу, что она всё делала красиво, даже курила, хотя курящие девушки мне никогда не нравились). Ей, кажется, было абсолютно всё равно, кто что подумает, поэтому она не скрючилась и не скукожилась, пряча лицо, а сидела прямо, слегка даже откинувшись назад, упершись затылком в стену. И в самом деле, кого могут удивить слёзы в травмпункте. Самое обычное дело… Голубые глаза от слёз казались совсем бездонными и нереально огромными, а вся она выглядела не человеком, а какой-то то ли мультяшкой, то ли инопланетянкой. Здоровенный дядька рентгенолог, кажется, долго не мог прийти в себя, когда понял, что с ним пришёл ругаться из-за рыдающей в коридоре девицы костлявый семнадцатилетний шкет. Богатырским сложением я и сейчас не отличаюсь, а тогда меня вовсе ветром колыхало, и моё счастье, что этика не позволила доктору применять силу. Оказалось, что мы с ней живём совсем рядом, и, провожая, я понял, что по общепринятым меркам схожу с ума. Меня абсолютно не волновало, что она на целую, как тогда казалось вечность, старше (мне было семнадцать, а ей, — О Боже! — двадцать четыре), что она уже «сходила замуж» и разведена и куча других фактов.
Май, вопреки календарной логике, состоял не из тридцати одного дня, а из прогулянных пар, кофеен и летних веранд, пыльных подъездов, в которых мы целовались, её сумасшедших глаз, выглядывающих из-за очков, и дурацкой, но очень привязчивой песенки, звучавшей отовсюду. После посиделок в кофейнях я не мог заснуть, чувствуя себя воздушным шариком, наполненным восторгом и кофейными парами, и тут же сам себя успокаивал: в мае спать необязательно. Май — он совсем не для того.
Тридцать первого зарядил дождь. Мы сидели у неё дома и наблюдали. Сначала он был весёлым и энергичным ливнем, а потом замедлился и как-то поскучнел. Или это просто пресловутое клиповое сознание, не позволяющее долго воспринимать одну и ту же картинку? В общем, через полтора часа в созерцании стекающих по стеклу капель не осталось ничего романтичного, и я впервые почувствовал, что мне с ней скучно. Она достала очередную сигарету, хотя пепельница была уже полна, и стала щёлкать отказавшейся вдруг работать зажигалкой. Когда прикурить так и не удалось, с неожиданной для той мультяшки-инопланетянки, какой я её считал, злобой швырнула её в угол. Я вдруг словно впервые увидел сузившиеся зрачки поразивших меня при первой встрече голубых глазищ, наметившуюся носогубную морщинку и слишком маленький подбородок, испугался этого зрелища, чувствуя себя чуть ли не Каем с осколком в глазу, и засобирался домой: «Поздно уже!».
Заходя в свой подъезд, я машинально посмотрел на часы. Они показывали одиннадцать вечера и извещали, что завтра весны уже не будет.
Иду я как-то вечером по улице, никого не трогаю, вдруг на меня наскакивает тётушка «потустороннего» вида (волосы нечесаные и торчат во все стороны, глаза бешеные, браслеты на руках звяк-звяк) и говорит: «Ой, девушка, какая у вас карма светлая! Вы не колдуете случайно?» Нет, —говорю, — не колдую я, просто к подружке в гости иду. Ну, тётушка мне ещё раз сказала про светлую карму, вручила листовку про снятие порчи и исчезла. Самого процесса исчезновения я не заметила, поэтому не могу сказать, куда же делась тётушка. Не удивлюсь, если окажется, что улетела на метле. Примерное содержание листовочки приведено внизу, чтоб, если кто найдёт у себя признаки порчи, не терялся и знал, что делать.
Допустим, чувствуете вы себя плохо. Как будто все соки из вас выпили. Окружающие, конечно, будут говорить, что это у вас авитаминоз, усталость и общее переутомление, но вы их не слушайте. На самом-то деле это сглаз (он же порча, он же негативное энергетическое воздействие). От него надо очищаться как можно скорее. Как?
Для начала пройти тест, чтобы выяснить масштабы заразы. Если вы положительно ответили на вопросы «не замечаете ли вы в вашей квартире появление ниоткуда луж крови на полу?», «Не вянут ли у вас на подоконниках цветы?» и «не испытывает ли кошка в вашей квартире необъяснимого волнения?», то всё очень запущено. Либо это порча, либо у вас дома мыши устраивают корриду, цветы хронически не поливаются и валерьянка хранится в дырявых пузырьках. Предположим, это всё же порча. Что же делать?
Во-первых, надо зажечь свечу и смотреть на огонь, пока она не догорит (лучше пользоваться церковной свечой — она быстро догорает, и вам не придётся несколько часов таращиться на огонь, что очень вредно для глаз), представляя, что в центре пламени тлеет вся ваша негативная энергия.
Следующий этап очищения – нужно положить под дверной коврик ножницы. Это напугает злых духов, а также тех, кто, собственно, сделал вам порчу (А если вы положите топор, да не под коврик, а на него, то напугаете вообще всех, включая соседей — прим. авт.).
После принятых мер по изгнанию отрицательной энергии следует зарядиться положительной. Для этого автор советует прислониться к «своему» дереву (оно определяется по приведённой там же табличке в соответствии с датой рождения) и так стоять десять-пятнадцать минут (Только не пытайтесь проделать это в трескучий мороз, а то прислонитесь к берёзке, да и врежете дуба. И уже не важно будет, ваша это берёзка или соседская — прим. авт.).
Ещё один способ подзарядки — ночью (!) влезть на дерево и громко (!) крикнуть первому человеку, увиденному внизу: «Изыйди, злыдень!», после чего плюнуть через левое плечо трижды (видимо, как раз на «злыдня»). Что должен делать «злыдень» не уточняется, поэтому непонятно, как узнать, зарядились вы, или нет (Если же вы вскоре увидите на земле целую машину «злыдней» в милицейской форме или белых халатах, значит, порча исходит от соседей, которые их вызвали). Порча, не прошедшая даже после таких мер — вещь серьёзная, требующая лечения по всем правилам, которое непрофессиональный оккультист обеспечить не в состоянии, как бы ни старался. Вас с распростёртыми объятиями ждёт магический центр (название не пишу, чтоб не делать ему рекламы), который это самое лечение и проведёт за умеренную плату. А если у вас после этого останутся деньги, то продаст оберег, чтоб впредь вас никто не сглазил.
Страницы: 1... ...50... ...60... ...70... ...80... ...90... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
|