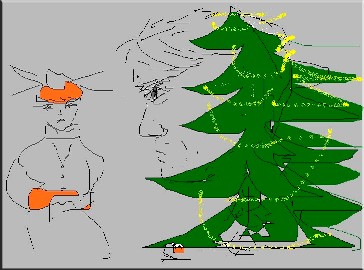|
|
2008-02-11 23:09Чат / Миф ( mif)
EveryДика: ну и что ты хотел в привате спросить? Merkader: Ты же с квартала Левченко, правильно? Е: а что? М: Я с городка Станкостроителей! Соседи. Ты знаешь Иру Шмелеву рыжую такую из восьмой школы? Е: нет я в 7ую хожу М: У меня в седьмой тоже одна знакомая учится. Таня зовут, с длинными волосами, я забыл фамилию... Е: лобач М: Что? Е: можит Лобач фамилия? М: Ну да, точно, Таня Лобач! Ты с ней в одном классе учишься? А мы с ней дружим давно уже. Вот это совпадение! Ты когда в чате сказала, что ходишь на Фонтан на дискотеку, я сразу понял что это за Фонтан, это возле парка Победы. Е: ты про это хотел меня спросить в првате ? М: Хотел спросить сколько тебе лет? Е: а что? М: Просто ты очень по-взрослому рассуждаешь и красиво говоришь, мне нравится. И английский знаешь. Тебе уже 16 есть, да? М: Чего молчишь? Е: почти М: Что почти? :) Е: будет 16 скоро.а тебе сколько лет? М: А сколько ты мне дашь? Е: незнаю я же ище не знаю ничево про тебя.а как ты узнал, что я английский знаю? М: Твой ник мне понравился сразу. Every Дика, «Всегда дикая!» в переводе с английского, как девиз. :) Е: спасибо. а что твой ник обозночает? М: О, это легенда! В древности был всемогущий бог, который послал героя наказать своего врага. Этого героя и звали Меркадер. Е: ты знаешь историю? М: Немножко. А ты какой предмет в школе больше всего любишь? Математику? Е: не! вобще сечас алгебру учим там уровнения ненавижу эти ! ! ! :(((((((я рисовать люблю и еще перирисовывать ,вофотошопе тоже умею М: Не может быть!!! Послушай, я тоже рисую с детства, в выставках участвую, и даже продал несколько своих картин. Хочешь я тебе свои картины покажу? Е: давай М: Где встретимся? Е: не не надо так мне скинь сылкой М: У меня нет в компьютере! И вообще, живопись в компьютере это НЕ живопись!!! :))) Ты близко от парка Победы живешь? Е: на углу М: Ну вот! А мне только трассу перебежать и я в парке буду, через пять минут. Принесу папку с моими рисунками, ты меня по папке и узнаешь. Сядем там на лавочке, я тебе покажу картины Е: позно давай завтра уже М: Завтра я не могу вечером, а утром ты в школе. Мне сейчас уходить как раз пора, я одет уже, пройду специально через парк, скажи, что выскочишь к подруге на минутку, я на углу парка передам тебе папку, а ты уже сама дома и посмотришь, а завтра отдашь. ПЯТЬ МИНУТ МАКСИМУМ, и вы дома, девушка! :))) М: Чего молчишь? Е: сек подожди Е: на мне куркта синяя будет. а на тебе? М: А я с папкой рисунков буду. :) Е: я выхажу М: До встречи! Е: :)
Вы оказались как всегда правы. Нет разума у политиков, даже если тень интеллекта присутствует на их лицах. Разум и ум отнюдь не одно и то же. Национализм самая выигрышная карта в ситуации экономического упадка. Денег у народа нет, знаний нет а вот национальность приобретена с рождением. Должен же человек чем-нибудь гордится. Можно гордиться руками, если они умеют что-то хорошо делать. Можно гордиться мозгами, если они умеют хорошо думать, везде это проклятое если., А вот национальностью можно гордиться без всяких если, просто за то что она у тебя есть. Нац. карта по всей видимости последняя надежда политика, чувствующего неустойчивость своего положения. Но даже в последней надежде отдавать в аренду центральную улицу столицы на целый день профашистской организации, при чём закрыв её даже для граждан, просто идущих на работу, это, уже слишком. Когда другим жителям столицы очевидцы событий рассказывают об этом они не верят, им проще заподозрить во лжи рассказчика, чем поверить в такое поведение выбранного ими президента. Свадебные кортежи по прежнему стремятся к памятнику славы, поставленному в честь защитников от фашистского нашествия, но они вынуждены огибать центральную улицу, потому что по ней маршируют те кто убивал этих защитников. Чем это закончится? Выигрышна карта смерти по нац. признаку, как не разыграть её, если под это можно получить хорошие деньги. Признаем голодомор геноцидом. Жуткие фотографии вымирающих сёл, все претензии к России, слёзные послания к Европе, а то что половина выставленных фотографий сделано в Поволжье… Мёртвые уже не возмутятся, живые поверят, они хотят гордиться хоть чем-нибудь, пусть национальностю, они хотят знать кто виноват в том, что представители великой нации бедствуют. Главное вовремя разыграть карту. Чем это закончится? Я помню время когда били морду тем, кто не знал как по-украински будет форточка. Сейчас запрещают вывешивать объявления в школах на русском языке, это при том, что повальное большинство детей на переменах и дома разговаривают по русски.А при поступлении в некоторые вузы ребёнок должен дать подписку, что в стенах института он будет говорить только на украинском, имеется ввиду не на русском. На английском можно на русском нельзя. Чем это закончится? Если честно, я не хочу слышать Ваш ответ, я хочу надеяться на разум, но….
Милый, так странно опять писать тебе. Нет, я не говорю, что я забыла тебя, то есть совсем забыла… Мне кажется, если я вдруг соберусь умирать и смерть подойдёт так близко, что я почувствую, как вливается желанный покой в моё всегда кипящее сознание, я не буду вспоминать свои платья, как утверждают многие, я вспомню тебя. Знаешь, когда пришло твоё письмо, я всё не могла решиться его распечатать. Ты давно перестал быть для меня обитателем реальной жизни. Нет, я не забыла тебя, я помню твой запах, твою манеру чуть наклонять голову, я помню твои губы. Но сегодня я не смогла нарисовать твой профиль. Помнишь мою привычку? Когда я читала твои письма, я всегда рисовала тебя, а потом дарила тебе эти исчерченные листы и ты пытался угадать какая завитушка соответствует какой строчке твоего письма… Я ничего не нарисовала, ни один силуэт не выплыл из под моего карандаша, пока я читала твоё письмо. Тебя нет во мне, осталась одна дымка. Да, я попрежнему люблю тебя, если можно назвать любовью то порой невыносимое чувство, которое упрямо живёт в моём теле. Только в полусне я улыбаюсь, мне кажется что я опять касаюсь тебя и ты никогда не уходил от меня в то морозное утро и не было километров писем и ещё более длинных пауз.. А наяву, привычным стало ощущение непреходящей тоски. Нет радости в моей любви. Не пиши мне больше, я не переживу возвращения. Эта метаморфоза уже не для меня, лучше я просто вспомню тебя, когда буду умирать.
- Самое главное – это громкость! – заявила Черепаха С Тротилом. - Не обязательно, – скромно заметил Маленький Пук. Только Курочка Рямбо промолчала. Не любила она разговоров. * - Самое главное – это Форма! – радовался Дед. - Самое главное – это Содержание! – радовалась Бабка. Только Мышка молчала. Она-то знала, что самое главное – это хвост. * - Самое главное – это Зритель! – думал Зритель. - Самое главное – это Артист! – думал Артист. Только Суфлёр молчал. Он-то знал, что самое главное – вовремя уйти. * - Самое главное – это Станиславский, – сказал Театр. - Самое главное – это Вешалка, – сказал Станиславский. - Это вешалка, а не работа... – сказал Гардеробщик, утирая пот.
2008-02-02 00:08За рекой / Пасечник Владислав Витальевич ( Vlad)
Возле продуктового магазина, Антон замедлил шаг. На сыром снегу сидел черный ушастый Анубис. Поводок тонкой черной пуповиной соединял его с дверью. Анубис тоже заметил Антона, чуть склонил голову набок, и его большие глаза сверкнули отраженным электрическим светом. Глядели эти глаза пристально, оценивающе, как на суде Маат. Антон повернулся к Анубису спиной, прижал авоську к груди, и неуверенно двинулся навстречу мокрым перьям метели. Пристальный взгляд собачьих глаз морозил спину, сапоги, чавкая, месили снег, неоновый свет припечатал нелепую сутулую тень Антона к дороге, и машины перемалывали ее в серую кашицу. Подошел к двери подъезда. От волнения чуть не выронил ключ. Щелкнул замком. Подъезд. Пыльная темнота. Из разбитых окон метет. Первый пролет… «Это ничего… все хорошо… это еще не жизнь» – думал Антон. Второй пролет. «Некоторые просто не понимают, что не родились». Третий пролет. «Скоро все это закончится. Только жизнь может длиться вечно. А это – не жизнь, а какой-то невроз. Меня просто нет». Четвертый пролет. «Скоро я начну жить. Гусеница – это еще не рожденная бабочка. Я – еще не рожденный человек». Пятый пролет. «Снова ключи прыгают в руках. Кто это притаился в темноте? Надвигается, кровожадно ухмыляясь, сжимая в руке короткую серую полоску металла?». Антон стряхнул наваждение. Все обман, морок. Он стоит один на лестничном пролете, возле открытой двери. В квартире сумрачно и пусто. Сквозь желтый папирус обоев просвечивают кирпичи. Ну разве может здесь человек Жить? На столике лежит купленный утром научно-популярный журнал «Анх». На открытой странице статья одиозного психолога Кузнецова. Антон машинально выхватил несколько строк: «…особенно в последнее время в моей практике участились случаи, когда люди воспринимают окружающую действительность в совершенно фантастическом, мифическом свете: мне попадались люди, мнящие себя жителями древней Эллады, причем именно тех ее регионов, где люди по культурным и религиозным соображениям не носили одежду, а также «обитатели» Древних Месопотамии, и Египта. Сложнее всего мне было наладить контакт с людьми, которым представлялось, будто они живут в ведической Индии, да-да Индии, причем именно времен Махабхараты, и Рамаяны. Пациенты запрещали мне приближаться к ним ближе чем на три шага, из-за того, что я, по их убеждениям являюсь «чандалом», то есть принадлежу к касте неприкасаемых. Я склонен объяснять это явление тем…». Антон перевернул страницу. Сразу после статьи Кузнецова следовало разоблачение оной статьи профессором Дат-анх-Нутом: «Все это – грязная хеттская провокация. Так называемые, гипотезы Кузнецова не только немыслимы и антинаучны, но и общественно опасны…». Антон закрыл журнал. Все эти ученые споры давно уже перестали его волновать. Он покупал этот дурацкий журнал по старой памяти, затем лишь, чтобы пробежавшись по странице взглядом, тут же закрыть его, и никогда уже не открывать. Нет. Было еще кое-что. Антон открыл последнюю страницу. Там крупным шрифтом было написано: «Помогая в строительстве Города, вы приближаете момент своего Рождения!». А ниже: «Строительство нового Города, за рекой, позволит вам реализовать весь ваш творческий потенциал. Каждая мастаба, каждая пирамида, каждый грот ускорят рост и развитие нашего Города». Антон приезжал в Город за рекой каждый год – привозил новые кирпичи и известь. Там у него были самые теплые знакомства. В перерывах, когда все отдыхали, можно было выкурить сигарету-другую, перекинуться парой словечек с соседом, присев на завалинку. «Что случилось?» – спрашивал Антон. «Да все как раньше…» – отвечал сосед, русый, усатый дядька, приличных уже лет. «Работаешь?». «Ну… работаю». «А жена как?». «У-у-у! – смеялся сосед, чиркая большим пальцем по горлу – Житья нет. Ты знаешь, когда Город будет готов, я ее сюда не позову! К хеттам ее, старую!». «А краской, какой будешь красить?». «Да как все». «Это как?». «Ну, красной…». «А я – синей – улыбался Антон – моя ведь ближе всех к реке». «Это ты погоди еще… следующей весной понаедут… реки своей не увидишь…». Когда за рекой появился Город, никто не знал. Он просто был всегда, словно зеркальное отражение старого города. Кто-то боялся его, кого-то безудержно тянуло к нему. Побывав в Городе в первый раз, Антон уверился, что там и только там можно Жить. Впрочем, тех кто начал Жить, Антон не видел ни разу. Он проходил мимо готовых построек, но все они были закупорены. Там же иногда он натыкался на бестолковых людей, с пустыми лицами. Люди эти незряче сновали по узеньким переулкам, и выли. От Антона они шарахались, как от чумного. Странные это были люди, ох странные… В дверь позвонили. Антон метнулся в коридор, припал к глазку. К нему давно уже никто не приходил. Если уж на то пошло к нему никогда никто не приходил. Он даже забыл как звучит звонок, и теперь это нудное дребезжание ужалило его. На лестничной площадке стоял Анубис – теперь при нем было человеческое тело, облаченное в пальто, и только голова, черная ушастая голова, жутковато торчала над плечами. Антон щелкнул замком, отворил дверь, впуская Анубиса в убогое свое жилище. - Я за тобой от самого продуктового шел – протявкал тот, сбрасывая пальто – ох и холодно у вас тут… - Может чаю? – засуетился Антон. - Не откажусь! – простужено просипел Анубис – я к тебе, собственно по делу. - Чашечка чаю никакому делу не помешает! – Антон смахнул с клеенки крошки, расставил чашки, зажег газ. - Сегодня лед из реки ушел – сказал Анубис буднично – можно плыть. - Как это плыть? – удивился Антон. - Ты Жить начинаешь. Время твое пришло. - Так… не достроенно еще… - А здесь у тебя что? – Анубис показал когтистым пальцем на авоську. - Кирпич. Сегодня купил. Но там еще много надо. - Сотрудники помогли, сосед твой тоже принес, не пожадничал – сказал Анубис – вот только один кирпич и осталось положить. - Это все как-то... - Неожиданно? – тявкнул Анубис – оно всегда так… Жить начать – это тебе не в парке прогуляться, Жизнь она всегда внезапно начинается… - Я не знаю… у меня еще столько дел… Анубис запрокинул голову и загоготал. - Помилуй! да я тебя давно знаю… ты с девяти лет ее строишь, так? - Ну… да… - Ты еще в школе понял… когда эти недоумки тебя задевали… ты же понял что это не жизнь? Тогда ты нашел свой первый кирпич, переправился на мой берег… правильно? - Ну, я еще пацаном был… - Ты червяком был! – ощерился Анубис – а в университете? Кто с тобой дружил? Да никто! Тебя не замечали… а если и замечали, то посмеивались. И на работе… помнишь сотрудников? Они ведь тоже строят… строят в Городе… не все, правда… Антон знал это, но ему почему-то не нравилось об этом думать. Сотрудники – румяные, веселые, женатые – строили что-то в Городе, неказистое, выщербленное… - Ты все ждал, все думал, когда же она начнется – Жизнь, за каким поворотом. Теперь-то что – трусишь? – сверкнул глазами Анубис. - А тебе почем знать? – не выдержал Антон. - Ты сейчас задал глупый вопрос. - Прости… так ты говоришь… сейчас? - Сейчас! - А чай? - А пес с ним! – отмахнулся Анубис – пойдем… И они пошли. Антон хотел было закрыть за собой дверь, но вдруг понял, что в халупу свою он никогда больше не вернется. От волнения сердце прыгало у него в груди, когда они сели в автобус, и помчались сквозь предрассветный сумрак – больше в салоне не было никого, только старая кондукторша-ракшаска с толстой облезлой сумкой. Она подобралась, было к Антону, щеря клыки, но Анубис рявкнул на нее, и она забилась в дальний угол, и сидела там, выпучив огромные кошачьи глаза. Приехали, когда вдали уже зарделся рассвет. У пристани их ждала папирусная лодка, изогнутая, словно полумесяц. Они взошли на нее, Анубис взял в руки весло, стылая река исполнилась первобытной африканской тьмы, и они заскользили к другому берегу, туда, где уже горели факелы. Людей возле мастабы собралось немного – сотрудники, да усатый сосед-доброхот. Все стояли с каменными лицами, на улыбки Антона не откликались. Кто-то даже – вот срамота-то! – прослезился... Анубис возвышался теперь над мастабой ониксовой тенью. Антон ощутил какую-то постыдную робость, но все же сделал шаг вперед, и положил последний кирпичик. - Все мы любили и уважали тебя… – сказал начальник отдела, не отрывая взгляд от своих черных лакированных туфель. - Ты был хорошим товарищем – добавил сосед – бережливым, аккуратным… - Да вы что? Сдурели совсем? – хохотнул Антон – да я же сейчас Жить начну! Никто не ответил. «Как это нелепо – подумал Антон, подходя к гробнице – вот этого я и боялся – что меня будут жалеть. Нет, прав был Кузнецов – дураки они все, мнят из себя египтян, а потом плачут. А я, вот, сейчас зайду в мастабу, лягу в саркофаг, и…». MUTABOR!
Я, кажется, был счастлив под этим крутым карнизом. Я, кажется, так смело умел тебя рисовать. И думалось, так просто враз вышвырнуть все эскизы. И верилось, ты рядом – и нечего больше ждать. Писал синее море – на море ни разу не был. В мечтах, кардинально хотелось сильнее стать. Сейчас до нутра больно влюбляться в твоё небо. И рифму хватать за нос и чувства в неё пихать.
записки идиота, в виде записки. в виде идиота – я. в случае чего, а чего может быть случай, это не я.
Люблю вспоминать моменты из своего детства. Конечно, я не слишком-то и выросла с тех пор, но обстоятельства жизни очень даже изменились, поэтому я разрешаю себе смело пользоваться этим сладким словом: «Детство». Конечно, стало только лучше: семья оторвалась от страшной нищеты; мама устроилась на работу, приносящую ей только радость; где-то в Горном Алтае остался отец, протиравший в прежние времена лысиной диванные подушки и перемазывающий грязными руками обои. Выросла умница и красавица старшая сестра, первая, из всей семьи, закончившая ВУЗ. Всё пришло в столь желанное всеми и ожидаемое равновесие. Видимо, просто из-за моего возраста, мне трудно оценить все положительные изменения. Да, мне трудно. Мне чересчур дорого всё, что было. Мне дорого то время, когда я ещё училась играть на скрипке, общалась только с самыми замечательными людьми, гордилась, что ношу вещи после старшей сестры и гордо называла маму художницей. А мама постоянно оправдывала это звание, и больше всего я любила мыть крышечки от её красок. Помню, одно время, мама решила начать нас закалять, причём, не самым банальным способом: она приучала нас с сестрой ходить босиком по снегу. Всё это, правда, длилось не больше одной зимы (мама никогда не отличалась постоянством). Теперь стоп. Детство прошло. Осталось только вяжущее ощущение уже свершившегося чуда. Правда, осталась мама, но сейчас её не заставить что-то нарисовать. Она преподаватель дизайна в институте. Сестра всегда была взрослой, поэтому-то с ней и не произошло каких-то заметных метаморфоз. Втроём мы сидим на кухне, как не сидели уже долгое время. Нет, это не дань прошлым счастливым дням. Это просто стечение обстоятельств: у мамы отменили занятия, и, сидя, она с интересом слушает сестру. Алёна – она сама увлечена своим рассказом и, как всегда в такие минуты, с усердием жестикулирует. Я раскладываю по полкам холодильника только что купленные продукты. Тут я вижу ЕЁ. ОНА кажется безумной, но только на первый взгляд. Она идёт прямо по снегу босыми ногами, а на лице ЕЁ только безмятежная улыбка. ОНА прекрасна настолько, что становится непонятно, что же подтолкнуло ЕЁ на этот поступок. Мама и сестра, обнаружив мой взгляд, тут же прилипают к окну. Они ничего не знают о НЕЙ, но они начинают выдвигать предположения и даже критиковать ЕЁ. А я? Чем лучше я? Своим решением родить ребёнка я поступаю гораздо более опрометчиво. Что скажут они, когда узнают, что я уже месяц хожу босиком по обжигающему снегу? Они ведь ничего обо мне не знают.
Ты кричал и сердился. Ты бросил в меня кепкой и промахнулся. Кепка громко упала на пол и пробила дыру. Из дыры немедленно высунулась лысая голова соседа снизу и чавкнула кепку. О, как ты крут, милый, когда сердишься, но это была очень хорошая кепка. Этот лысый снизу давно на нее глаз положил. Теперь она упала ему прямо в рот. Я заглянула вниз. Из дыры сочилось вожделение. - Вы больше ничего не получите! – отчетливо произнесла я в дыру. – И вообще, довольно нахально с Вашей стороны хватать головой чужие кепки! Дыра увеличилась и вздохнула. Пришлось топнуть на нее меховой тапочкой. Впрочем, это было неосмотрительно, меховые тапочки лысый снизу тоже любил. Я с укором посмотрела на тебя, но тебя не было. Милый, милый… Ты думаешь, я не знаю где ты? Я ведь слышу шорох на антресолях, ты решил уйти там? Но ты забыл, что на антресолях у нас растет новогодняя елка. Давно-давно, когда еще в нашей жизни был Новый Год, 13-го января после ужина ты закинул ее туда, и с тех пор она разрослась и заполнила собой все пространство. Я слышу, как ты хрупаешь по битым елочным игрушкам и шуршишь мишурой. Ты пробираешься к выходу. Ты еще не знаешь, что там нет выхода. Для тех, кто сердится и кричит, никогда не бывает выхода. Они попадают на антресоли и хрустят там, как старые елочные игрушки. Я взяла веник и смела в дыру холодильник, он мне больше не понадобится. На термометре за окном пробило 12. 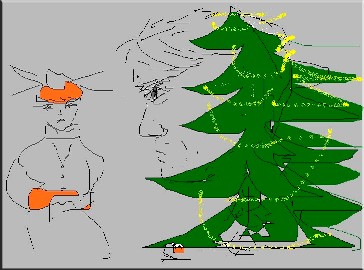
13.01.2008
Мы проснулись, проглотили завтрак, забились в деревянный кузов «газели». На лавке уместилось только четверо, остальные кто как: на корточках, на лопатах, на жестяных ведрах. «Газель» выползла на дорогу, тарахтя дряхлыми внутренностями, и понеслась во весь упор по извилистой дороге. Крытый брезентом купол тут же наполнился пылью, и бензиновым смрадом, стало невозможно дышать. Кто-то, матерясь, натянул на лицо футболку, кто-то сел на бортик, лицом к выходу, туда, где в клубах пыли извивалась серая лента дороги. Спустя какое-то время грузовичок дрыгнулся и замер. Приехали. Вылезли, чертыхаясь, выгрузили лопаты, и нехитрый археологический инвентарь. Горная терраса уходила вниз, к самой реке. По краю ее, редкой белой расческой, рос полувысохший березняк. Мертвые деревья, поваленные ветром, раскинулись на земле, словно обожженные солнцем скелеты. Шли вереницей, сквозь густую траву. Над террасой поднимался горький травяной дух, вдалеке река монотонно шумела в своей каменной артерии, в воздухе дрожал июльский жар, и работать ох, как не хотелось. Дошли до кургана. Неопытный взгляд вряд ли различил бы его в траве. Так, – еще одна кочка. Только приглядевшись, можно увидеть, что никакая это не кочка, а каменная насыпь – просевшая от времени, разбитая травой, облепленная лишайником, и словно шерстью, обросшая бурым мхом. Мы остановились. Специалист – невысокий, светловолосый мужчина немногим старше тридцати, отрядив трех человек, стал размечать квадрат. Курили только папиросы – сигареты давно кончились. Специалист замерял что-то, рассчитывал, время от времени делал какие-то указания, я наблюдал за ним без особого интереса – все это я уже видел много раз. Разговаривали как всегда не о деле. Археологи почему-то никогда не говорят о деле. Так о всяких разных посторонних мелочах. Когда я встревал с дилетантскими своими расспросами, преподаватели очень сердились, особенно Специалист. Он-то и дело понукал меня, за мое неуклюжее любопытство, мол, не работаешь совсем, зато языком молоть – первый мастер. Когда первая суета улеглась, Специалист смерил нас специалистским своим взором, и так провозгласил: - Работаете аккордом. Это значило – ежели сделаем всю черную работу до обеда, – остаток дня свободен. Сам Специалист, была бы его воля, ни днем ни ночью не вылезал бы из курганов. У него была своя бригада «могильщиков» – три-четыре человека, с которыми он работал на вскрытых могилах. Свита Специалиста всегда трудилась после обеда, им отводилась самая интересная работа. Попасть в «могильщики» было нелегко, а мне с моим трудовым усердием, и вовсе невозможно. Наша задача заключалась в другом: сперва нужно порубить траву, снять на полштыка дерн, которым поросла насыпь, расчистить камни, разровнять пространство вокруг кургана, подождать, пока Специалист сфотографирует насыпь, потом разбросать ее по камушку, пока не покажется темное пятно, означающее, что внизу могила, опять все разровнять, и передать квадрат в руки «могильщиков». В этот раз все не заладилось с самого начала: едва я взошел на курган, как в голове у меня все закружилось, я отшатнулся, ища руками опору, быстро сел на траву, и земля раскачивалась подо мной словно палуба корабля в качку. Парень по прозвищу Пила почувствовал то же самое. - Знать, там мерзость какая-то похоронена – заметил он. Такое уже случалось. Попадались нам на курганы, источавшие скрытую, жуткую силу. Говорили о них, конечно всегда не всерьез, но нет-нет а передергивали плечами. От этого же кургана пахло какой-то тысячелетней злобой. Не то что вскрывать, – подходить к нему не хотелось. Но аккорд – есть аккорд. Специалиста злить ни к чему. Вы знали, что на курганах часто растет крыжовник? А среди камней живет великое множество живности – улитки, жуки, пауки, ящерицы. После обеда, когда курган хорошенько прогревается, разбирать его одно удовольствие. Не поверите, но такой курган будоражит аппетит, перебитый скудной походной едой: земля пахнет теплой выпечкой, камни, шершавые снизу, очень похожи на свежие сдобы, так и хочется укусить… На поганых курганах все по-другому: каждый камень оттягивает руки, земля не земля вовсе, а холодная, рыхлая грязь. От поганого кургана нельзя оторвать взгляд, он приковывает к себе, впитывает, опустошает…. Делать нечего. Мы взялись за лопаты, и приступили к нелегкому своему труду. Неприятности начались тут же: едва мы начали раздерновывать квадрат, из-под камней, гудя, поднялся шмелиный рой. Один шмель даже ужалил Пилу. Пришлось прерваться. Рассерженный рой какое-то время метался над курганом, но потом, подхваченный ветром, умчался прочь. Следом прямо из насыпи полезли жирные зеленые гусеницы, великое множество гусениц. Невесть откуда прилетела ворона, уселась на обросшую огненно-рыжим лишайником скалу, и молча уставилась на нас. Потом облетев над курганом несколько кругов, она опять заняла свой пост. Потом сделала еще несколько кругов, уселась, и хрипло, задушено каркнула. Снова и снова она совершала свои налеты, и глядя на ее выщипанный темно-серый силуэт, я чувствовал странную тяжесть в душе. Две сотни шагов отделяли нас от дороги. Мимо пролетали автомобили с радостными, солнечными туристами. А я стоял одной ногой на кургане и отковыривал с камней рыжий лишай. Сколько мы здесь? Две недели? Три? А сколько человек может прожить в таком месте? И словно из толщи земли приходит ответ: жить недолго, спать – целую вечность. Я поймал взгляд Музыканта. Он был бледен, мы все были бледны. Он посмотрел на меня, перевел взгляд на дорогу, которая уходила за поворот реки, за изгиб террасы, и тихо произнес: - Я вот сейчас подумал… почувствовал… глупо конечно… будто нас уже много раз откапывали…. Больше ничего не сказал – просто уткнулся взглядом в разрыхленную землю. Вскоре наш труд был отмщен. В курганной насыпи обнаружился каменный ящик. Специалист сказал, что возможно это захоронение по обрядам зороастризма. Будто в древние временна время в этих долинах жили кочевники, исповедовавшие зороастризм, и просто зарывать тело в землю для них было грешно. Рядом с курганом обнаружилась дахма, на которой, присыпанная камнями, покоилась груда конских костей. «Но примешь ты смерть от коня своего…» – подумалось мне. Тошно стало до невозможности. Мы расстелили верхнюю одежду на траве, сели. Кто-то пытался анекдоты травить, но все шутки уходили впустую. Рядом с нами ревела черная воронка, в которую уходили все наши мысли, все потуги. Меня услали к реке, за водой. Терраса круто обрывалась у самого берега, и приходилось очень осторожно ковылять по выветренным, ломким каменным зубьям. Я скользил по траве вниз, цепляясь за колючие кусты. Вдруг… сквозь мерный шум реки продралось хриплое лошадиное ржание… и тут же все стихло. По спине моей почему-то пробежали мурашки. Уж больно жутко звучал этот звук при свете дня. Словно разом обнажился какой-то срам, вроде гниющей язвы… Ржание повторилось, и так же резко оборвалось. Я прибавил ходу, спотыкаясь через шаг, позабыв про всякую осторожность. Снова услышав этот страшный звук, я сорвался на бег, трухлявые камни крошились под моими ногами, я почти кубарем скатился на берег, но… увидел лишь что-то темное, неживое. Течение тащило его по камням, только на секунду из-под воды бесстыже задралась нога, жилистая, тонкая, как ветка. Я стоял и смотрел вслед этому огромному темному пятну. Бутылки я выронил, запнувшись о камень, теперь они болтались на кусте, словно погремушки. Пришлось за ними вернуться. А потом… я не мог подойти близко к воде. Какая-то холодная стена отталкивала меня, я сидел на валуне и ждал, когда вода… очистится. Или очищусь я… Иногда мне снится сон. Я стою на берегу, тут же собрались все археологи. Река пенится, бурлит, а по ней против течения, черной стрелкой разрезая буруны, движется лошадиная голова – облезлая, костлявая, с пустыми провалами на месте глаз. Временами из воды проступает голый позвоночник, с присохшими к нему пучками гривы. - Откуда она? – спрашиваю я Музыканта. Музыкант – или же это был кто-то другой? – улыбается грустно и говорит: - Из дахмы, откуда еще… - А почему она против течения плывет? - Все поплывем…
Страницы: 1... ...10... ...20... ...30... ...40... ...50... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ...70... ...80... ...90... ...100...
|