|
|
На острие языка
Раскачиваясь,
Прыг-скок изо рта в рот
Картинно крестясь,выпячиваясь,
Готовясь вообщем в полет,
Прощение...
То ли прощание?
Будто шкодливый кот
Из под стола,
вот вот...
Ждет,
Какой оборот?
Стою.
Как огня- смерти
Боюсь,
Разлуку!
А за рукав черти-
Не трусь,
Бро-о-ось!..
Вот же суки!!!
Угрюмый.
(Детское всхлипнув)
Рисую губами-... АЙ !
Перекусив пополам
Убийственное-
ПРОЩАЙ
Когда еще было всё новым, не старым,
Когда было проще всё и чудесней,
Одна девушка, совершенно задаром
Спела мне звенящую песню.
Как девушку звали – теперь я не помню...
Помню только печаль и радость
Во взгляде нежном, в глазах ее чёрных,
Как, плача, помню, она смеялась.
Я полюбил её голоса звуки,
Я полюбил просто так быть любимым,
И в бестолковой возне и стуке
Я стал различать очень важное имя.
Девушка музыку мне играла –
Другим боялась. Сарафан покупала.
У меня была песня – но мне было мало,
Как и всего от тебя мне мало.
Как тебя звали – под пыткой не вспомню...
Помню только как мы с тобою
В мире чужом, в мире огромном
Вдруг оказались под странной звездою.
Эта звезда рассудила иначе.
Ей показалось: девчонка достойна
Большего. Я же кому предназначен? –
Вот тебе жизнь, живи, мол, спокойно.
Девушка нынче чужою стала,
Сарафан купила. Другим играла...
Но жизни одной без тебя мне мало,
Как и всего без тебя мне мало.

Единогласно со всех сторон доносятся возгласы: «Долой нерепрезентативное искусство, мы за возвращение к Ренессансу и классике». Step-by-step количество сторонников вытеснения саморазрушительных эксрпериментов в искусстве, которые обвиняюют «критиков, арт-дилеров и рынок в деградации искусства» (Tsion Avitala, “ Art Versus Nonart: Art Out of Mind ”, 2003 ) увеличивается.
Желание присоединиться к подобному хору двояко.
Безусловно, двадцатый век был, как никакой до этого, плодовит на количество течений, «измов», парадигм и отрицаний. Но кроме всего прочего, век двадцатый был полон и восклицаний: «Назад к Ренессансу». Как и девятнадцатый. Тем не менее, возвращения не произошло, а попытки тоталитарных режимов объявить реалистическое искусство единственно верным только еще больше увеличили пропасть между искусством репрезентативным и т.н. «модернизмом». И вряд ли подобное возвращение к Ренессансу возможно в принципе, после того количества открытий, кот. прошлый век привнес в изобразительное искусство. Это и появление фотографии, ставшей прерогативой на «реальное» с момента возникновения, и становление дизайна как отдельного направления (со всевозможными его ответвлениями), и всепоглощающее агрессивное развитие рекламы, и компьютеризация, а, еще через 10 лет, интернетизация всей планеты. Имеет ли смысл подводить «искусство» под существующие мерки «Art Versus Nonart», если деятельность художника в его классическом смысле слова в 20 веке разрослась до корпоративных объемов? Вместо единственного художника, который в каком-нибудь веке восемнадцатом справлялся и с проектами зданий, и со сценографией, и с оформлением продукции, и при этом успевал писать портреты и оформлять купола церквей, сегодня орудуют миллионые сетевые агенства, цеха декораторов и веб-дизайнеров, копирайтеров и планировщиков. К концу 20 века само понятие «изобразительное искусство» оказалось ненужным прогрессу, так как все функциональное на себя взвалили дизайнеры, собирающие пенки прибыли и при этом остающиеся творцами. Искусству осталось лишь бесполезное. Если от изобразительного искусства оторвать все его созидательные составляющие, как это произошло в 20 веке, и еще при этом осуждать художников, рисующих на заказ – что прикажете в итоге получить? Абсолютно «чистое», дестилированное искусство? И винтоваты ли так уж кураторы и арт-дилеры, если функция художника в 20-м веке поменялась с необходимой на бессмысленную? И при этом оставшиеся идеологи пытаются осуждать нарратив в искусстве- но, простите, если искусство не будет учить или бороться с чем-то (что еще не совсем отняли) – то зачем вообще нужно изобразительное искусство? А зачем ОНО вообще нужно?
...тут мы подходим к рубежу эпох, пытаясь всмотреться в вечность в поиске того самого, прото-искусства, которое быть может появится на небосклоне и ответит на все наши вопрсы.
Будит ли оно морализирующим? Или нарративным? Или абстрактным? Будет ли оно на холсте или на бумаге? Либо новые технологии выдавят все традиционное? Вернется ли прекрасное к прекрасному, либо изобразительное искусство исчезнет вообще как понятие, оставшись лишь музейным экспонатом? Будут ли и далее художники производить бесполезное, красивое и странное, когда так велико сооблазнение уйти целиком и полностью на поприще рекламы, либо подвязавшись в общий мейнстрим разных «артов» вколачивать и далее гвоздики в гробик, где покоятся кисточки и краски?
И стоит ли думать и говорить о «вечном», что из покон веков было основной плоскостью самой идеи «искусства», если мир вращается с такой огромной скоростью в плену у сиюминутного?
В своей работе «Искусство и ответственность» М.Бахтин пишет: «Правильный не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни....в том, что и искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством.»(М.М.Бахтин – Искусство и ответственность).
Искусство это ответственность.
И если у советского искусства цель была воспитательная, то последние десятилетия у русского искусства цель была другая – самоутверждение в мировом контексте. У «обоих» из них не было никакой ответственности.
Сегодня особо просвященные западные критики могут с трудом вспомнить некоторые имена современных русских художников (мало чем отличающихся по сути от их западных коллег). Уф.... Можно наконец считать миссию завершенной? НО- где же ответственность искусства перед зрителями?
Мы гипотетически должны встречать произведение искусства по его модной одежке ( элементы инталляции, акционизма, мультимедиа), но как мы должны провожать ЭТО? По «уму»?
Редкого современного художника сегодня можно обвинить в гуманитарно-теоретической (и даже физико-математической) отсталости, и это одна из причин почему на нас как их рога изобилия полилось нетрактуемое-искусство-неподлежащее-дешифровке: в силу внутреннего эдипова комплекса художника, который из покон веков вопринимался более как ремесленник, нежели как философ. Последние 100 лет арт-сцены перечеркнули этот предрассудок, но появилось ли противоядие этому вырождению рисования в текстописание? Почему все продолжают цитировать «Черный квадрат» Малевича – эту первую ласточку русского концептуализма, забывая при этом о втором крестьянском цикле и его поздних фигуративных работах? Авангард XX века прошелся катком по всему изобразительному, понятному, трактуемому, эстетическому, но имеет ли смысл продолжать такую эволюцию искусства и далее, когда сами художники и критики зашли в тупик?
Искусство сегодня – это продукт рыночной конкуренции, но также это жест самовыражения художника, которому должны быть присущи своевременность, уникальность, четкость послания и художественная ценность. К сожалению, данные элементы качественносй оценки взяты не из статьи искусствоведов, а из пособия по рекламе для креативного директора.( Luke Sullivan , «Hey, Whipple, Squeeze This: A Guide to Creating Great Ads») Реклама сегодня, к сожалению, это двигатель поп-культуры, которую искусство по своему перерабатывает, и во многом рекламисты – это выходцы из художественной среды с тем лишь отличием, что их творчество хорошо оплачиваемо, всеми потребляемо и , в обязательном порядке, должно содержать четкий message, иначе милиионы долларов потраченные на производство окажутся выброшенными на ветер. С другой стороны арены одиноко взирает на мир через стелко пустынной галереи «произведение современного искусства».
Хочет ли оно быть прочитанным зрителем? Хочет ли художник быть услышанным вообще? И кем?
Сегодня практика разговора индивидуальностей в искусстве переросла в шокотерапию. Этот тупиковый путь, который отвечает запросу современного арт-рынка отнюдь не находит понимания зрителя и зачастую оказывается политикой массового привлечения дилетантов в искусство. Как бы мы не относились к С.Дали, значение это художника в искусстве 20 века огромно, и его слова о том, что сначала ты должен научиться работать как старые мастера, а потом любой жест будет оправдан, окончательно забылись.
Представьте себе увлекательное мероприятие: собрать современных художников и провести между ними конкурс на лучшую копию Караваджо. Данный этап смог бы автоматически отсеять зерна от плевел. Второй этап конкурса- импровизация на заданную тему (убивает любителей плагиата и компеляций). Оставшиеся в живых переходят на третий этап – создание произведения с четкой концепцией, соединяющего современные средства арт-коммуникации (интернет, видео, дизайн пространтва) и язык искусства в его классических жанрах: живопись, графика, скульптура, ДПИ. Такое процентное соединение формы и содержания могло бы вывести искусство на качественый уровень.
Вопрос соотношения качества формы и содержания – должен же он быть поднят в конце концов. В той стране, где настолько глубока традиция этой самой борьбы формы с содержанием. В стране, наследнице искусства византийских скрытых и потаенных смыслов, где содержание всегда было превыше, но тем не менее, никогда не умаляло художественной ценности произведения.
***
Трава щекотала нос. Запах похожий на воспоминания детства, когда спал на матрасе набитом сеном в маленьком сарайчике, почти в хлеву. За полумраком его вмещались пение птиц, мурлыкание котят, писк цыплят и переговаривание людей. А еще фиолетовые цветы, сладкие –сладкие. Фиалки. Жасмин, что благоухает в ночи пьяной весной. И оранжевые лилии, что возвещают приход августа. Дом.
Неделю назад на совете директоров я сказал – им всем – что инвестиционная оценка проекта была ошибочной, и риски недооцененными. Я конечно лучше бы помолчал, потому что много тому виноватых. И никто бы не открыл рот до момента настоящего краха. Половина сидящих за столом опустили глаза, другие смотрели на меня почти с явной враждой. После совещания президент похвалил меня за то, что я не испугался. И еще – что он в долгу. Спросил как мои дела, планы и т.п. Я ответил, что хочу взять отпуск на полгода, а еще лучше на год, чтобы поехать на Юг Украины с археологической экспедицией, или написать книгу. Свет дружелюбия от похвалы пропал у него на лице. Он сказал, что в случае увольнения мне будет причитаться довольно приличный бонус из-за его хорошего отношения. Стрела счастья и испуга пронзила изнутри. Ан вот как...
На следующий день я валялся весь день в кровати и не отвечал на звонки. Позвонила секретарша. «Я болен. Дизентерия». Все поняли, как поняли. Моя невеста позвонила на следующий день, объявив что знала, что я глуп, но не настолько, что я эгоист, и что я не оценил, что ее родители сделали для меня и т.п. «Я болен». Она появилась, говорила, махала руками, собирала вещи. Я все это наблюдал спокойно и отстраненно. Дизентерия не мучала больше, хотелось пить. Воды. «Я хочу воды». Она смотрела на меня своими дивными некрасиво-красивыми глазами и ждала, что я начну раскаиваться и, попросив прощения, выйду на работу. Я ее послал. Так ... Просто.... «Иди на...» Разбив пару артефактов она ушла. А потом и я ушел. Ушел и все.
Когда весной вылезают первые зеленые прожилки из-под земли это чудо. Ты приходишь на следующий день – а там уже головка, на которой как шапка – семянка. Через три дня уже два листочка. Осенью все такое трагичное. А зимой – тихое. Весной – бурное. Летом – расслабленное. В моей жизни сейчас лето. Я еще не знаю, что будет завтра. Трава смешно щекочет нос и уши. По руке ползет муравей. Вокруг – оцепление из стеблей и листьев, а над – небо, смотрящее сверху и улыбающееся. Птица иногда пролетает. Вечность. Лизнуть мгновение – поцеловать его. Войти через него в суть сущего. В эти травы, птиц и синеву. Войти и взлететь ввысь, чтобы обозреть все с космической глубины, ровно как Он видит нас.
Жизнь мягко и плавно течет. Окрыляет и засасывает. Мечты прекрасны, но наполовину ложны. Но ложные мечты помогают строить реальность, которую мы потом уже не боимся отбросить, получив от нее все, что требовалось. Я все время жил, повинуясь мечтам. Не причине, не доводам, не журналам с «ответы на все вопросы» рубриками. Если я хотел еду, я ее брал. Если мне нужно было заполучить какую-то определенность или следующую ступень, я на нее ступал. Очень часто мозг стоил дубликат мира внутри. И я ему помогал это делать. У меня внутри уже были постоены многие места, например Питер и Пушкин, Геленджик и Петергоф. Зачем я не знал, но что-то меня толкало туда. Заполнял себя как ребус, где нужно было находить недостающие части и проживать их. Жил как дурак. Работал на стройке, ди-джеем, продавцом мороженого, студентом художественного вуза, отличником и раздолбаем. Тусовался до дрожи в коленках, не спал неделями, принимал, все что можно, волочился и был должен. Потом вдруг приходило осознание, что в этом направлении – тупик. И я устремлялся в другую сторону.
Как-то я решил себе устроить путешествие в мир-за-стеклом. Отправил миллион резюме и меня позвали. В настолько, насколько ты осознаешь, что это путешествие, а не обязанность или хуже того – работа. Я наслаждался графиком жизни, тем, что надо вставать каждый день в шесть и что меня привозил-увозил шофер, квартирой, которую мне сняли, церемонией одевания, новой обязанностью приобретать галстуки и костюмы, короткой стрижкой, покупками в гипермаркете и зарплатой, которую можно было тратить. Президент корпорации тоже играл. А остальные все работали за его деньги и исполняли свои обязанности. Я тратил все на ерунду и алкоголь, а также нашел пару созвучных путешественников, которые наслаждались жизнью. Вместе мы делали свое дело и даже больше, а за это получили возможность настолько проникнуться мирами друг друга, что это вызвало неминуемый душевный комфорт. Президент ко мне хорошо относился – так как мне ничего от него не было нужно. Он знал, кто я. Нам было прекрасно. Я постепенно втягивался. Меня ввели в совет директоров. Я все чаще ловил его обращенный на меня «взгляд». Друзья-путешественники разлетелись, я остался в окружении тех, кто «работали». У меня завелась девушка. Очень стремительно я сделал ей предложение и купил квартиру, в которой все время все терялось. У нас появились друзья-непутешественники. Мне они нравились, но иногда охватывал страх. Я считал, что это побочный эффект взросления и принятия ответственности. По вечерам мы думали, как назовем своих детей и какое платье лучше. Однажды я попросил, чтобы он меня отпустил. И он согласился. Но было уже поздно. И потом – мы ответственны за тех, кому наобещали. Так?
Небо – это все, что нужно, чтобы понять все, что нужно. Лежу вот так, глядя в небо, уже четыре часа, и чем больше сливаюсь, тем сильнее раскаяние.
Однажды я проснулся. Рядом спина, за окном луна. Понял, что в тупике. И что надо запустить программу выхода из него. Программа дала о себе знать, когда перед советом директоров я проспал. Налил в кофе коньяку зачем-то. По дороге в офис попросил остановить машину и купил мороженого. Все меня ждали, а я явился обляпавшийся и счастливый. Программа работает – я был готов сам себя в этом заверить. Ну, а потом как во сне. То-се... Жизнь не должна вас обмануть. То есть – мы не должны ей позволить Это с собой сделать.
Квартиру продам наверное. Будет на что жить полгода. А потом что-нубудь придумаю.
Ползли две черепашки. Одна другой говорит – я видела свет в конце тоннеля. А вторая отвечает – когда высовываешь голову из панциря, лучше делать это с закрытыми глазами.
Я никогда не умру.
***
Она оставалась лежать на полу. Сначала была больница, она наблюдала заплаканные лица детей, их озабоченность. Знала их мысли. Ей не хотелось возвращаться. Она улыбалась.
Врачи провели консилиум и вызвали дочку. Та зашла в палату с испуганным лицом, на котором пыталась продержаться улыбка. «Врачи говорят, что ничего страшного. Просто надо отдохнуть и подлечиться». Я знаю, что она врет. Но в ответ ей улыбаюсь, так как не хочу создавать лишних сложностей, им и так сложно.
Когда дети уходят, я испытываю облегчение и сама себе пугаюсь, ведь у меня кроме них больше ничего нет. Мне кажется самое время понять, что я тут делала. В палате кроме меня еще два человека: с одной стороны женщина все время смотрит в окно, периодически засыпает, с другой – молодая девушка под капельницей. Бледное лицо, лет 29, не приходит в себя. Мое облегчение усиливается тем, что мне не надо наконец ни с кем быть вежливой и обходительной: они молчат с двух сторон и ни к чему не обязывают. Я забираюсь с ногами на кровать, пытаясь найти наиболее удобное положение. Никогда в жизни не задавалась таким глупым вопросом: найти удобное положение, чтобы наконец понять, что я тут делала. За окном весна и ярко-зеленая безбрежность не вызывают никаких чувств. «Свободна», – проносится в мыслях. Я упираюсь ногами в основание кровати и закрываю глаза. После операции все еще болит все пространство между конечностями, голова же наконец ясная, ее не замутняют скачки давления и мигрень. «Как просто лечится внутречерепное давление, просто нужно, чтобы тебя всю порезали и голова пройдет». Я стараюсь ровно дышать и вдруг осознаю, как много у меня времени на осознание такой маленькой вещи – зачем.
Пока родители не развелись, мне казалось что жизнь – для счастья. Мама была улыбающаяся, а ее образ – домашней, копошащейся на летней кухне, в Саду – весь словно созревший одуванчик, с ареолом света и пухового оперения вокруг. Она говорила мне: «Жизнь – это очень просто. Главное быть нужной». Я росла, созревала, пытаясь понять, что она мне сказала. Детство закончилось с их разводом. Лето закончилось, сада больше не было. На его месте построили небольшую гостиницу. Я спешила закончить школу, чтобы больше туда не возвращаться. После двух лет колледжа устроилась работать на почту в другом городе.
Женщина-у-окна повернулась ко мне и поймала мой взгляд. Глаза у нее темно-серые. В них – отчаяние. Мне стало страшно. Внутри колыхнулось. Как-будто она подмигнула мне. Хотя я знала, что нет. В районе живота созрел шар и словно лопнул, тепло раздвинуло полость. Я почувствовала что-то вроде сексуального возбуждения. Меня это удивило и рассмешило.
На почте я работала сначала на сортировке писем, потом занялась организацией: делала расписание по участкам, следила, чтобы вся территория района была равномерно охвачена персоналом. Меня перевели в центральный офис, где я была занята тем же самым, но уже для всего города. Работа мне нравилась. У нас был хороший коллектив, часто приходилось выезжать в разные места. Я никогда не опаздывала и не конфликтовала с начальством, ко мне хорошо относились и продвигали на разные должности. Я просто пыталась быть нужной, как когда-то мне говорила мама.
Мама умерла от остановки сердца, мне осталась гостиница. Пришло время покинуть почту и начать разбираться с тем, от чего я так мечтала откреститься. Гостиница мне давила в подсознание, так как стояла на месте моего Сада словно его надгробие. Я знала, что нам нужно было иметь заработок, что у мамы не было выхода, и что она понимала, что я ее никогда не прощу. Да простила я ее. Я уехала из моего детства и все То забыла, да и простила всех. Лишь хотела никогда не вернуться обратно. Постепенно я разобралась и с этой задачкой: мини-отель начал приносить более-менее постоянный доход, заработанного в сезон хватало на жизнь и оставалось кое-что на развитие. Я заказала современный сайт, халаты – в общем как-то все шло. Пока на пороге не появился Тот-чье-имя-я-постаралась-забыть. Они приехали на гастроли, с группой. Играли такую интересную музыку... Высокую и сладкую одновременно. Он сказал мне, что я вода, хрустальная и чистая, а он огонь, в котором горит весь мусор мира. Мне понравился он. Напомнил мне отца. Такой же безумный. Они уехали через неделю в другой город. Он прислал мне два письма. Дети мне этого никогда не простили.
Я работала очень много. Больше, чем прежде. Расходы очень возросли, так как мальчик был очень болезненный. А девочка – шустрая и яркая. Как отец. Я боялась за нее с самого рождения. Один из поставщиков предложил мне выйти за него замуж. Пожалел что ли? Я отказалась. Я его не любила, и потом сама справлялась. Когда мне не хватало сил, или кто-то из детей заболевал, я перечитывала два письма. Снова и снова. Сотни, тысячи раз. Это было как лекарство. Помогало. С какого-то момента мне больше даже не нужно было их читать – я знала их наизусть.
Снова поймала на себе взгляд женщины. Может ей нужна помощь? Я ее спросила, могу ли чем-нибудь помочь. Она лишь улыбнулась и покачала головой. Меня пугал ее взгляд, а с другой стороны притягивал. Словно она где-то все время летала. Как дельфин – одно полушарие спит, а другое живет. От ее глаз мне стало не по себе и вспомнились слова какого-то ирландского поэта: «Все остается в боге». Это были красивые слова – такие же красивые, как и письма. Они мне вспомнились и остались внутри. Поселились.
Я не очень любила читать. Времени всегда не хватало, и потом чтение вгоняло меня в сон. Дети меня упрекали за это. Я их звала Динь и Дон. Дон много болел и поглощал книги тоннами. Однажды он узнал про поэта Джона Донна и решил что он теперь «Дон». Ну а «Динь» возникла сама по себе, для рифмы. Динь-Дон. Они обожали друг друга. Дон с детства был маленький философ, а Динь – как языки пламени. Вдвоем как жизнь и смерть. Лет с пяти они начали спрашивать об отце. У меня не было времени изобретать истории, и я сказала всю правду. Ну или почти всю. Я не сказала им, что он умер от передозировки и никогда не вернулся обратно. Рано было им знать такие вещи. Они бредили идеей найти его и заниматься музыкой. Я понимала, что отговаивать их лишь подливать масла в огонь. Потом кто-то проговорился им, что их отец умер. И причину. Они не поверили. Искали что-то в интернете, газетах. Не помню сколько было им лет. Но они уже были достаточно взрослыми, чтобы не простить мне отца. Как и я маме – сад.
После все как во сне. Жизнь вдруг свернулась в спираль, воронку и вышла из-под контроля. Слезы, мольбы, я первый раз в жизни попала в больницу. Старалась быть трезвой, повторяла наизусть письма, но они не помогали. Словно я наконец осознала, что Он умер. Динь-Дон оторвались, как отпочковываются растения, и отправились по реке в океан. Я боялась за них обоих, не могла спать, где-то нашла молитвы и пыталась их читать каждый день перед сном. «О путешествующих» и «Божьей Матери». Они мне не писали и не звонили. Утро и вечер перестали различаться, ночь приносила короткую передышку. Очень часто мне снились сад и мама-одуванчик. Я просыпалась в тепле и слезах. Мне снова предложили выйти замуж. Мне было около сорока. Было уже поздно что-то начинать с нуля. Я отказалась.
Иногда я просыпаюсь среди ночи и всматриваюсь в лицо девушки под капельницей. На нем – покой и безмятежность. Что было в ее жизни? Есть ли муж? Есть ли у нее дети? Любят ли они ее? А вдруг она монашенка – у них часто такие лица. Словно ничего с ними никогда не происходило. Я сажусь на постели, облокачиваюсь о тумбочку, чтобы было удобно, и долго-долго смотрю на нее. Она вдруг изменяется: в чертах лица я узнаю Дона, потом Динь. Они открывают глаза, двое в одном лице, и улыбаются мне. Они никогда не уходили. Потом они становятся своим отцом, чей образ, совершенно забытый мной, вдруг проявляется с необыкновенной ясностью. Он мне говорит: «Девочка моя, в тебе столько тишины и уверенности, словно я наконец причалил к берегу». Мне кажется, что я плачу, трогаю глаза – а они сухие. Мой отец был такой – все время плакал сухими глазами.
Как-то раздался звонок и на том конце вселенной я услышала Динь. Голос был тихий и смущенный. У меня родился внук. Я не знала, плакать или смеятся. Желтая капсула внутри разорвалась и спираль, по которой меня ввинчивало внутрь, вдруг рванула вверх и меня необыкновенным толчком отнесло в небо. Они жили в небольшой съемной квартирке. Сладкий запах молока и пеленок. Парень Динь был ее партнером по группе. То ли гитарист, то ли барабанщик. Весь в татуировках снузу доверху, смешной такой. Динь тоже изменилась – но все та же, с бесенком в глазах и нечесанными волосами. Я окунулась в суету сует, гостиницу оставила на своего заместителя, да и за годы там все было налажено до работы часового механизма. Ребенок был забавным – хотя иногда пугал своим взглядом. Там вдруг соединились Все. Я отгоняла от себя лепестки ассоциаций, размышлений и продолжала быть нужной.
Однажды позвонил Дон. Смутился. «Ой, мам», прервался словно не знал, что нужно в таких случаях говорить. «Позови Динь пожалуйста» – слышу как тяжело дышит и не находит слов -«Если она дома конечно. Как у тебя дела?» Мы с ним говорим несколько минут, напряжение спадает. Он смеется. Говорит, что совершенно не было времени приехать. Я улыбаюсь. Я не осуждаю. Я уже вне спирали и все старые обиды звонкими каплями стукаются об оболочку радости вокруг меня и скатываются спокойно вниз. «У меня издана первая книжка» Я знаю это. Уже прочитала у Динь на тумбочке. «Я тебе передам. Надеюсь тебе понравится». Я как-то обнаружила кирпичик бумаги с незнакомым и таким близким именем на обложке. Не поверила глазам. Перевернула. Долго всматривалась в фото на оборотной стороне, узнавая заново того, кто был Дон. Джон Донн. И после. Я читала, и читала, и читала. Читала как те два письма в какой-то далекой уже жизни, потом молитвы, меня переполняло желание теперь выучить и эти письма наизусть. Чтобы вылечиться. Такой мой мальчик. Такой...
У Динь была операция. Ничего страшного, но барабанщик собирается ее бросить. Внук подрастает. Динь мечется между музыкой и новой ролью. Дон помогает ей как может. У самого как-то жизнь пока не складывается. Учится в колледже. Пишет книгу, занимается по ночам и подрабатывает чертежником. Мне так важно, чтобы они продержались. Не сгорели как бумага, чтобы разлететься паутиной по ветру. Я все время повторяю «О путешествующих» и стихи сына. Они словно мои мысли – беспорядочные и простые. Ну вот и все. Все – да? Теперь уже конец? Уже?
У женщины-у-окна закрыты глаза. Она спит. Мне вдруг становится страшно. Жизнь, которую можно самой себе рассказать за несколько часов, пронеслась и остановилась в Точке. Смотрит на меня и вопрошает. Молча так, с интересом, без злобы. Но и равнодушно. Такое выражение на лице у мастера, который готов заменить перегоревший предохранитель на новый. Бесстрастное: чья-то работа устранять неподадки, а чья-то – следить за круговоротом. Хочется человеческого взгляда. Девушка-под-капельницей так и не приходила в себя, женщина-на-кровати спит. За окном сумерки ночи. Равнодушные звезды. Жутко смотреть в лицо своей жизни. Что-то внутри вновь затеплело и начало словно ручеек по камням журчать и перекатываться вверх. Щекотно. Во рту вкус из детства. В уши. Звезды как-то ярче что-ли. «Все остается в боге». Или мне уже мерещится. И правда ярче. И больше. Я встаю с кровати и подхожу к окну. Стало намного легче, боль ушла. Они были правы, когда сказали, что нужно всего лишь подлечиться. Доктора всегда правы. За окном в ночной тишине цветущие сады и запах любви, жасмина, стихов, чего-то сладкого и мерцающего, необъятного и близкого словно. Пьянит.
Девушка-под-капельницей смотрит на меня смеющимися глазами. Сколько раз я представляла себе ее глаза, всегда закрытые – но никогда не думала, что они такие. Какие угодно, только не такие.
Я – вода, хрустальная и чистая, а он огонь, в котором горит весь мусор мира.
На моей кровати кто-то тихий. Ложусь на пол. В следующую секунду засыпаю. Я устала.
Когда ты в нигде
И имя твое ниоткуда
Ты вспомнить пытаешься,
Но не дает новый строй
Игры. Ты надеешься
Снова проснуться –
Но это лишь новая жизнь.
Не бойся. Привычка заменится скоро другой
Привычкой. И те, кто любил полюбят других
Останется только оставленное
Позади.
Когда ты один в перевернутом мире.
Никто – а вокруг ниоткуда и трезвость
Того, что мелькнули года за секунду
И в той скорлупе, что служила тебе
Как такси, лежит только тишь.
Не страшно? Наверное только сначала.
Потом обретаешь баланс,
Гравитация стала другая.
А сзади лишь сон.
В нем остались все те, кто еще.
Порывы проснуться так тошнотворны,
Как спазмы. Тошнит –
Пробужденья не будет.
От этого хуже еще.
Не хватает так рта и земли.
Успели простить ли...
Бессмыслица новая жизнь.
И была ли какая-то до?
Мне приснятся собака и мама,
И кто-то еще, кто скучает.
Весь мир был клубок.
Где вращался по кругу лишений и
Меда. Решил ты вернуться?
Уж поздно.
Ворота открыты.
***
Я не проронила ввысь
Ни слова засоренного
Не мною. Всем была,
Все брала:
Печаль моя струною
За плечами вьет
Застенок мне.
Ангелы стоят у
Изголовья. Время пьют мое.
Своей любовью
Откупаюсь я пока,
Но меньше стало –
Жажда подступает
К сердцу.
Я вползу в нее,
Вскребусь змеею.
Ущипнуть себе немного
Сути. Чтобы в мире этом
Мой кусочек
Продолжался,
Если я засохну.
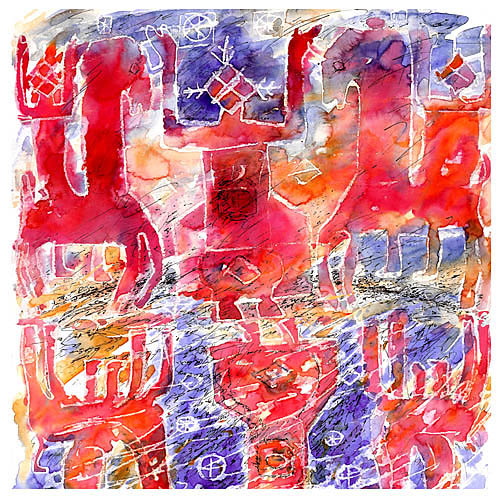
Страницы: 1... ...50... ...100... ...150... ...200... ...250... ...300... ...350... ...400... ...450... ...500... ...550... ...600... ...650... ...700... ...750... ...800... ...850... ...900... ...950... ...1000... ...1010... ...1020... ...1030... ...1040... ...1050... 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 ...1070... ...1080... ...1090... ...1100... ...1150... ...1200... ...1250... ...1300... ...1350...
|