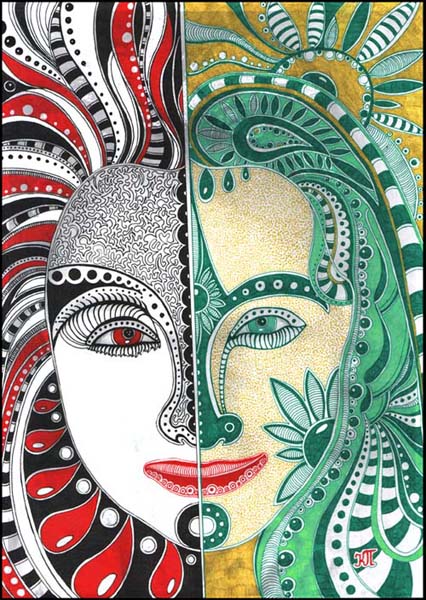1.
Гей, вы, рыжие, черные, сизые, сивые! Где моя свинина и кофе, где мои яйца и глаза? Так познается собственное ничтожество! Я вижу страшный суд, судий и судимых, и тысячелетнее царство. Вертись, Миллер, в гробе своем, детей твоих – миллионы, школ – тысячи, больниц – сотни; и пятьдесят газет. А тебя уже и не помнит никто! Пришла пророчица, баба, сказалась мессией. Нет, бог будет на облаке и везде, а сатана – на земле и здесь.
2.
О, сколько корпел я над бумагой, сколько страдал! Где ты, Agnus Dei, где руки твои? И ты, Григорий первый и твоя мовь? И благословенный век шестой? И скорбь людская, и молитвы, и пения? Грызущие камень, теряющие зубы в нем, оставляющие память в нем, отзовитесь! Где ты, Agnus Dei, где твои руки? В надежде на чудо, на исцеление, на искупление, ною нудным голосом, да кода же наступит конец всему этому?
3.
Сонмы безумных ремесленников, крестьян и мелких феодалов сожгут иконы, надругаются над мощами, изгадят храмы и возомнят себя выше. Против мира дьявола, навстречу божьему миру. Обезглавь их, Иннокентий, отними у них члены и уши, глаза и языки, дай им урок! Еретики из провинции, французское отребье, ох, погуляем на кровавой свадьбе! Нет ада и рая, нет чистилища, нет червя и нет неба. Из дерьма в дерьмо. Где же ты, Иннокентий?
4.
Власть, силу сверхъестества, вот, что дает он мне. Люди, природа, звери и птицы отныне – мое войско. Кто осмелится пожелать мне злосчастия? Злые чары ему по боку, а, значит, и мне. Крысиный помет, крылья нетопырей, корни чертополоха, глаза жаб, весенние травы, паучьи ноги и змеиные жала – все в котел! Смотрите, что у меня за пазухой. Нет, сердце – дальше…
5.
Не о предопределении, не о судьбе говорю я. Заново рожденные лицемеры, зачем вам гражданское равенство? Братья не по крови, жалкие плебеи от истины, ждете озарения? Это же вы придумали Утопию, за что вас и топили, и вешали, и жгли. Ждите, ждите. Топить вас не перестанут. Не о судьбе говорю я. Каждый выбирает свою дорогу, вас же – ткнули носом.
6.
Споем, друзья, во славу Стеньки Разина и Емельки Пугачева! Советскую власть помянем и Льва нашего Николаевича не забудем. Была еще шайка придурков-параноиков, но о них вспоминать не хочется. Список велик, тысячи тысяч. Гидра. Кого устрашили, кому рты позатыкали? Все вышли сухими из воды, почти все. Такая вот бесполезная штука.
7.
Все бедствия, о которых знаем мы и не знаем мы, падут на нас. Засуха, градобитие, саранча, падёж, голод, мор, язва, и, и, и… Унылые индейцы бросают насиженные места, уходят, ирокезы – молчаливое племя. Духи овощей не уберегли их. Маис, маис – колбаса на палочке. И мы уходим следом. Велес, Ярило, Перун и Даждь-Бог ведут нас, взявши за волосы. Все стихии – воздух, огонь, земля и вода в наших руках – деревянные человечки с выпученными глазами.
8.
Где сидеть нам придется? Встанем же, откроем рты так, что видны будут чрева наши, такие же мерзкие, как и все наше племя. Объединимся, восстав! Гарнем на всю ивановскую дрожащими от натуги голосами, авось, кто и услышит. Поплачемся во всеобщую жилетку и высморкаемся туда же. Разве мы недостойны быть там? Разве нас можно не заметить?
9.
Почему никто не замечает их? Грязь – им отметина. Когда-то это были крылья, теперь – какие-то жалкие обрубки. Все в глазах. Туда можно заглянуть, очень глубоко, почти до самого дна. Того, что увидишь там, хватит на целую жизнь. А про демонов – это все выдумки. Разве могли они пасть так низко?
10.
В год1534 парламент, «актом о верховенстве», объявил короля Генриха 8-го главой. В год 1549 отменено безбрачие. В год 1571 утвержден символ веры из 39-ти статей. И поехало… То братание, то раскол, то кентерберийцы, то йоркцы, то толстые, то худые, то бедные, то богатые. Шизофрения на почве мании величия.
11.
Еще бы! Пьянству, как искусству – бой! Один Смирнов наливает, другой – выливает, вот как бывает. Объявил себя мессией и бросил курить тоже. А за это его – к стенке. Нечего было больных да увечных исцелять, чудеса всяческие творить! Только что дедушка Ленин помер, НЭП в угаре, бандитизм, мздоимство, кляузничество, ему что, заняться было нечем? А ведь попивал, небось, втихаря.
12.
Тряпочка непростая, есть в ней что-то особенного. Косточки, волосики зашиты по уголкам. Говорят, без этой тряпочки ни вина, ни хлеба не вкусить. Никакой, собственно, евхаристии. Что же, раз так, вынесем и возложим на престол ее, очистимся и умилостивимся.
13.
Про Нерона, который, кстати, петь очень любил о том, как матери кровь пролил, тоже слухи ходили. Дескать, жив, паскуда, вернется скоро. Ваня про то и написал. Или это не про Нерона? Много их было, сволочей пакостных. Вот Аввакум и на Петра пенял, а папа – на Лютера. Лютер, ясно дело, на папу. Наполеон, Гитлер, Сталин. Только вот кишка у них тонка была. Так что, ждите.
14.
Дотошные эти англичаны, ей богу! Вот Лики – половину Африки раскопал, а питекантропа, все-таки, откопал. На Танганьике. Правда, если только сер Артур опять не пошутил. А этот Марксов сотоварищ и рад стараться: «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». До такого и думавши не додумаешься.
15.
Что, ветер придуман шайкой доморощенных психопатов? Взяли и нарисовали на стенке. Остальное – свет, грозу, снег и проч. – тоже? Неправда! Умные, умные все это придумали! А идиоты только повторяют. По своему образу и подобию. И приходят в самое неподходящее время.
16.
Был некогда простейший первоначальный способ целостного восприятия и толкования явлений и связей внешнего мира. Ничего особенного в нем не было. И дела никому до него не было. Кроме Шульца. Он, буржуй этакий, начал в этом ковыряться. И расковырял, что это – вообще форма мировоззрения, или даже форма в квадрате. Кстати, именно тогда это уже не имело никакого смысла. Практически все художники кисти, пера и нотного стана снова повернулись к человеку. Один Тютчев не повернулся. Но ему простительно.
17.
То, что уже началось, не закончится никогда. Последняя битва, кровью своей затмившая все предыдущие. Кричи, но тебя никто не услышит. Крик твой отчаянный, судорожный, беззвучный утонет в лязге оружия и проклятиях поверженных. И взойдет новая звезда на востоке, и озарит угрюмые могилы от края до края. Плач раздастся над миром, плач без слов. А те, кто останется в живых, будут искать друг друга, чтобы убить. Ибо так сказано им.
18.
Арий умер в Александрии в 336 г. Еще при его жизни, в 325 г., Никейский собор отлучил его от церкви. Долго еще после смерти старца шатались по Римской империи его ученики, говорившие на непонятном языке. Гонимые и голодные, но счастливые в своем заблуждении, стучались они в двери и не находили сочувствия. И шли дальше. До неба, до звезд, до лучших времен. Босыми ногами по мокрой земле к превосходнейшему творению вселенной.
19.
Скотская жизнь изо дня в день, круги под глазами, руки в ссадинах, душа в колючках. Отказываясь от всего земного, покупаю себе рай грядущий. До рвоты, до истерики, до белых мух в глазах. Великим подвигом называю я совершенство. Никаких желаний, только пустота во взгляде и падающая вниз белая голова. Живой огонь съел душу, радуюсь. Плачу над бездной, и слезы льются оттуда, где раньше было сердце. Вижу пять изъянов на руках, ногах и под ребром. Но мне не больно.