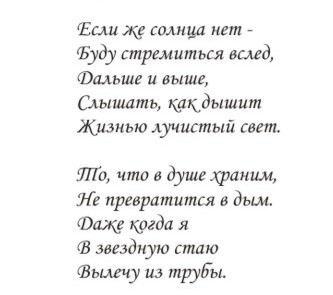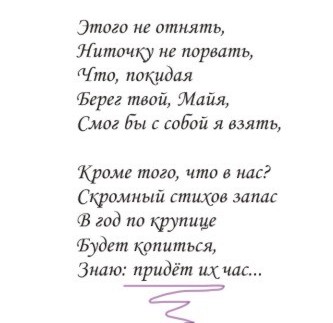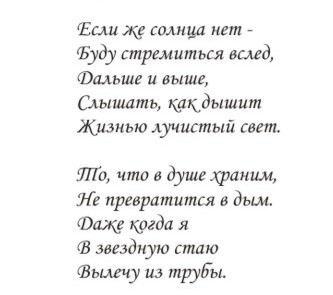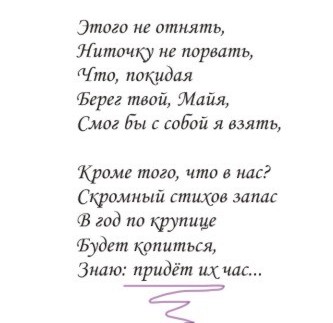Робко прошу
У бога крошку
Счастья!
Сейчас я -
паршивая овца,
Завтра царица.
После завтра -
трицератопс.
Опс –
И вымру.
Но к утру
Опять явление,
На удивление.
Как шелудивый пёс
Блудливо
Тыкаюсь в нос,
Ностальгирую.
Каюсь, юлю
Молю:
Духи
Великого уха
Вселенной!
Не хочу быть тленной!
Хочу как Ленон!
В неон реклам!
Я не хлам!
На колени
Не ленясь,
Не ломаясь.
Хрясь!
Молюсь…
Прошу
Убого:
Крошку,
Окрошку
Картошку
Всего понемножку,
Понарошку…
Счастья ложку
В бочку дёгтя….
В черном городе задумчива березка,
в белом городе – ракита над рекой.
На листочке, словно сопелька-подвеска,-
хрусталек-росинка. Боязно рукой...
На фарфоровом крылечке Царь-девица
томным глазиком уткнулась в ноутбук.
Ах, она давным-давно кому-то снится,
только ей никак не снится милый друг.
Ей бы курочку кормить пшеном с ладошки
Золотым, чтоб ясный свет – во все концы.
Ей бы птичкой петь, чтоб смолкли все гармошки,
Чтоб невольно поперхнулись бубенцы.
Но она молчит, печатая упрямо,
под прекрасным лбом – мыслительный процесс:
"Неежно коотику поет на уушко маама..."
Ох, не любите Вы, Антик, поэтесс...
На трамвае номер один я езжу на работу.
Два мне всегда напоминает о мужчине и женщине.
...
Это счёт, который не надо продолжать.
До восьми ты не дожила.
Чисел нет.
Я покупаю примерное количество сосисок
И расплачиваюсь примерным количеством денег.
Есть какое-то облако,
Которое несёт меня.
Есть какие-то слова,
Которые я произношу.
Мы едем с приятелем на рыбалку,
Ловим карасей.
«Девять штук, девять штук» -
Говорит он гордо, показывая банку.
Караси толпятся, друг двигает губами.
Я не понимаю ни слова.
Давно уже лишил меня покоя
один вопрос, который задаю:
зачем с каким-то похотливым гоем
ты девственность оставила свою?
Зачем торжествовал, тебя имея,
почти наверняка смертельно пьян,
тебя, Раису – вейзмир! – дочь еврея –
обритый необрезанный мужлан?!!
Где был наш Б-г и все другие боги,
зачем не помешали волшебством,
когда свои раскидывала ноги
ты перед не кошерным естеством?!
И вот теперь сознательно и верно
еврейской лезу в петлю головой,
но я сегодня стану непременно
последним из ложившихся с тобой!
Ведь я не упущу удачный случай,
и ночью этой – темной и глухой –
зашью тебе рождалище могучей
суровой сионистскою рукой!
Он меня называет гадюкой,
Анакондой и коброю тоже.
У меня есть и ноги, и руки,
И не сбрасываемая кожа.
Никогда на него не шипела,
И укус мой нежней поцелуя.
Но своим гуттаперчевым телом
Обвивать я умею, волнуя.
Если я на минуту теряюсь,
Он в тумане тоски и надежды
Начинает белеть, словно парус
Одинокий и очень мятежный.
И без ласки змеиной горюя,
Проклинает весь мир, чуть не плача.
Просто нежность его, словно буря,
И со мной невозможно иначе.
После праздников схлынувших некуда больше спешить.
Телефон утомленный в заслуженной прячется спячке.
В распорядке, в котором рутиной проглочена ширь,
На себя в зеркалах натыкаться – насущность задачи.
Ожидаемо вторгся – отчаяньем! – шторм тишины.
По волнам не уплыть, покориться бессилию мало.
Не спасением штиль погруженья в истоки вины,
Где щемящая боль второпях не изъятого жала
Не позволит сплести обещаньями призрачно сеть,
Что дорогою станет среди отражений проклятий.
Одиночества вызов в глазах, примеряющих смерть…
А продрогшее счастье бредет позабытое в слякоть,
Успевая спасти безрассудством ночного звонка.
Набираемый номер – ошибочен!? Кем продиктован?..
Не поставленный крест в Книге Судеб – устала рука,
Возродилась надежда свободы примерить оковы.
01.07.2004 редакция 27.01.2008