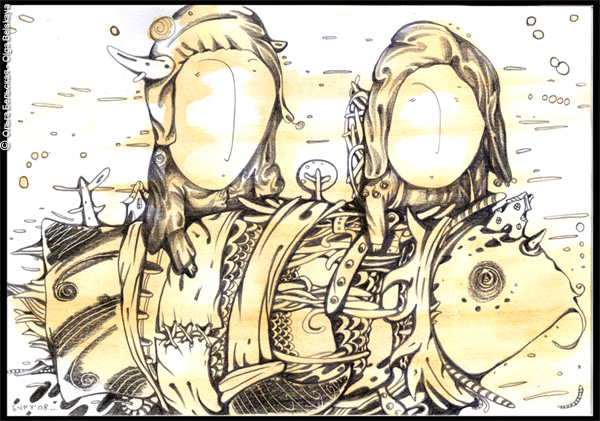Между мной и тобой – километры пути.
По изгибам судьбы, в неизвестные дали.
Я не знаю тебя где искать, где найти?
Только сердце своё успокою едва ли.
Сто ударов тревог на минуту, за жизнь.
Продолжается путь, только я не устану.
Я найду тебя, верь, за надежду держись.
Но прошу, доживи, ну, во что бы ни стало.
Мы сожжем на ветру горе наших разлук,
И друг друга своими согреем глазами.
Золотым перекрестьем тоскующих рук,
Окольцуем любовь, что кружится над нами.
А потом тихо-тихо “поплачем за жизнь”,
За судьбу, что отмерила столько страданий.
Я иду к тебе, верь, за надежду держись,
Наша встреча – Земля на волнах ожиданий.
Москва стояла на твоих костях.
А ты в нарядном платьице летела.
С тобой мы познакомились в гостях.
Ты на меня насмешливо глядела.
Цвели каштаны в воздухе густом,
И пахло свежеиспечённым хлебом.
Роились пчелы сладко над кустом,
Над головою выгибалось небо.
Я высоко подбрасывал пятак,
И он звенел в какой-то высшей точке.
Я верил: напишу – и будет так.
Но я тогда не написал ни строчки…
Прыг по лестнице, прыг во двор.
Во тьме, у реки, лопочет вода.
Птица сидит. А в руках – топор.
Птица «беда», говорит, «беда».
«Бороду сбрей, чистое надень.
Я на заставе пока стою.
Чтоб – гимнастёрка и чтоб – ремень.
Быть нам наутро в одном строю.
Звёзды гудели. Ты слышал, нет?
Передовицу давно ль читал?
Из молока отлетает свет,
Ветер, как вкопанный, в поле встал...»
У, проклятая, у, говорю.
Бороду я тридцать лет растил.
И молока я давно не пью.
Доктор мне настрого запретил.
Слышу лишь: фьють! Ох, беда, беда
Прыг по лестнице, прыг в кровать.
Как холодна в реченьке вода.
До смерти аж расхотелось спать.