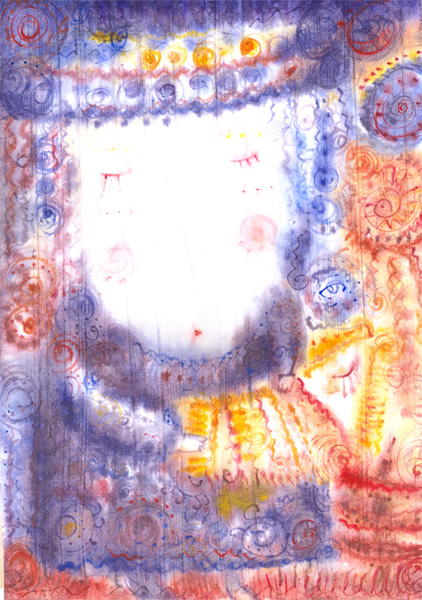.
* * *
«…И не будем думать о плохом,
Заживем – невестой с женихом…»
«Где-то там, там – за холмом седым –
Синий лес и детства белый дым…»
«…Не смотри с тоской, родной, назад,
Будет лес другой, и дом, и сад, –
Там течет – уже недалека –
Перед домом звездная река…»
«Синий-синий лес, белый-белый дым…
Перепутья крест за холмом седым…
Детство, детство там, по оврагам спит,
Там белеет храм…»
«…Там ты был убит!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«...И забудь, не думай, не жалей;
Возвращаться – вдвое тяжелей...»
«Сердце... сердце плачет и дрожит
В той стране, где мать в земле лежит…»
«Отболит, отноет, отожжет...
В той стране никто тебя не ждет...
Твою боль – за звездною рекой –
Как рукою снимет, как рукой...»
«Синий-синий лес, белый-белый дым…
Перепутья крест за холмом седым…
Детство, детство там, по оврагам спит,
Там белеет храм…»
«…Там ты был убит!..»
.
Когда всё ляжет поперек
и сердце застучит натужно,
спасет, Илюша, не пророк,
спасет нас дружба.
Когда и дружба засосет
и ею тяга жить уменьшена,
ничто на свете не спасет, —
спасет нас женщина.
Когда изменит и она,
умри, но выживи упрямо.
Спасет не бог, не сатана, -
спасет нас мама.
Но если и она уйдет,
и вымерзнет из сердца нежность,
спасет, что после всех умрет, -
спасет надежда.
А коль уж все, чем ты живешь
упрется в лоб тебе двустволкой, —
ты только сам себя спасешь,
ты сам — и только!..
Фата-моргана, фантасмагория,
морок мучительных снов,
тихая нежность, тихое горе
нам часто основа основ
жизни непрожитой,
но уже пройденной,
той, что теряет
свой свет...
фата-моргана...
маленькой родинкой
под сердцем
оставленный след...
Меня сжигает страсть до пепла ночи.
Ворочаюсь, тоскую и тянусь
к той, с кем союз так сладок и непрочен,
как и любой, наверное, союз.
Раздавлен тишиной и грустью выжжен,
лежу, и осень падает в меня.
Чем дальше ты, тем ты родней и ближе,
но ты не здесь и не моя вина
в том, что не вместе мы, что так вот, порознь
нас век вжимает в ложе суеты,
и в книге не стихов, а прозы
все главы Жизни новые – пусты...
…тень сосновой иглы
передвинулась на дюйм вправо
песок годится для любой игры
даже для самой кровавой
игры королевских песочниц
в войну по-переписке
по переписке букв из заглавных в строчные
этим срочно занялись археологи и архиепископы
которым кажется архиважным
переписать хотя бы одно стихотворение архилоха
переводя знаменитого поэта из устной формы – в бумажную
что уже само по себе не плохо а архи-плохо
как тень патефонной иглы
которая касаясь тени патефонной пластинки
извлекает из неё лишь тень фортепьянной игры
чтобы передвинуть на дюйм вправо открывая для себя картинки
с выставки бульдозерного авангарда
сносящего все песочницы с песком пропитавшимся кровью
если песок питается кровью с жадностью леопарда
то человек питает жадность к душевному нездоровью
эта сверхъестественная жадность
выходит человеку богом
а бог – проявляет к человеку жалость
только если фамилия у человека набоков
если лолита это всего лишь песочный кулич
красивый но несъедобный
что ж вы молчите владимир владимирович
маяково-набоко-подобный
шаг из песочницы и мы уже посреди пустыни
и нашему королю вечный иранский шах
чтобы стихи писались словами как карандаш простыми
первое из этих слов
первый нах…
* * *
Всё то, что было, выпито давно.
И не достать хорошее вино,
Везде и всюду грубые подделки,
А без вина нам не прожить и дня,
И пьём эрзац, судьбу в сердцах кляня,
И мечемся, и крутимся, как белки.
Толкаемся в похмельной тесноте
И топчемся в куриной слепоте,
И скалимся, как загнанные волки,
Нам старого армянского глоток,
И вновь в душе проклюнется росток,
И больше не поедем на разборки.
Любимая, любила ли меня,
Иль просто принимала за коня?
Я вёз, везу… Но ты ответь: Доколе?
Ведь чешутся лопатки по ночам,
Орлиный дух под сбруей не зачах,
И снятся горные вершины, степь и море…