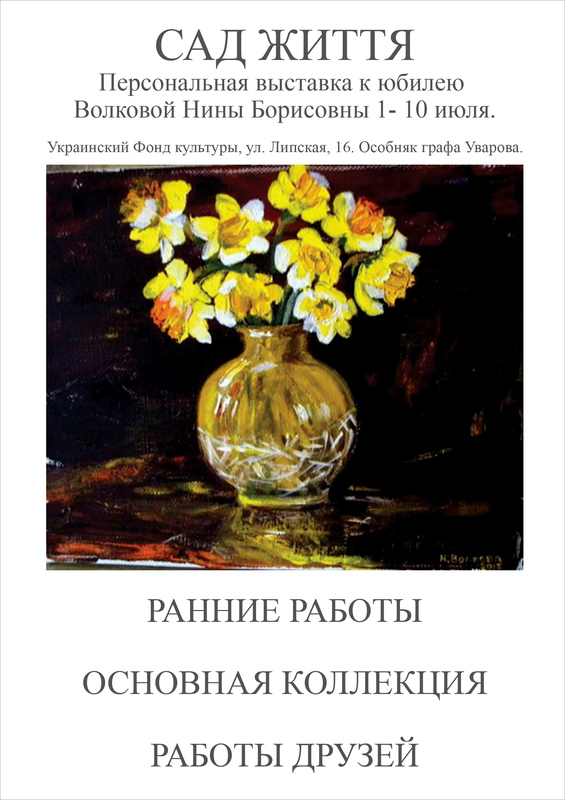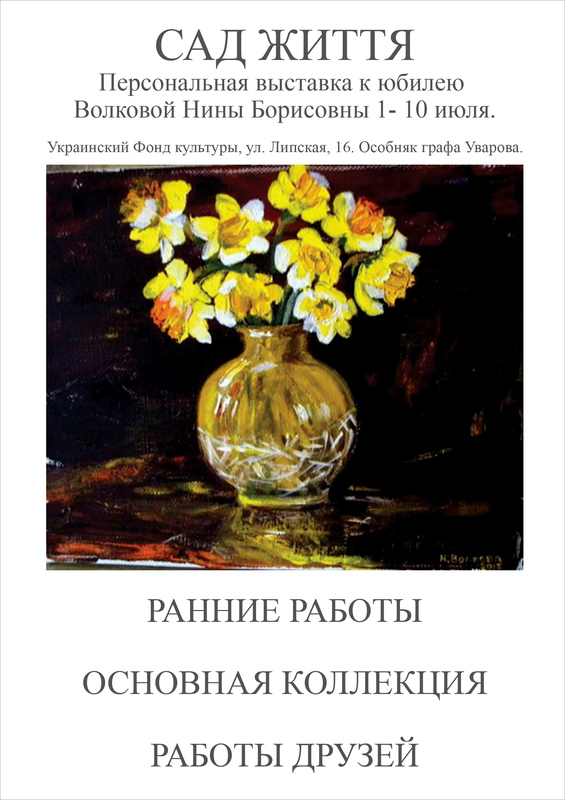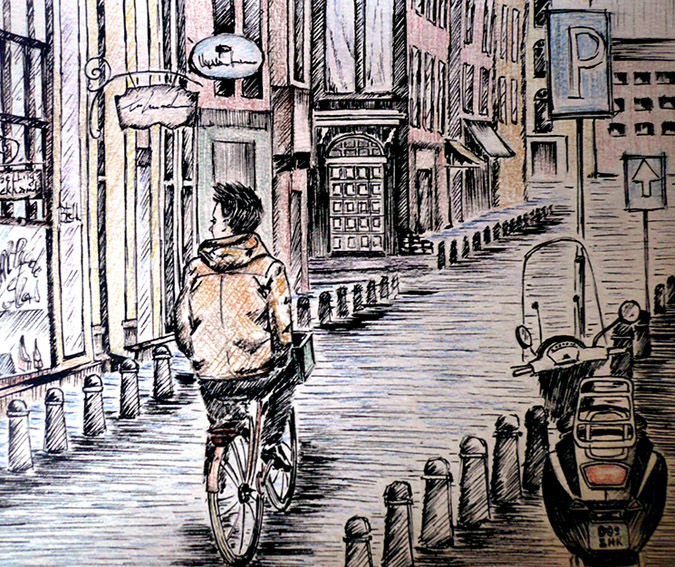Над озером туманом снег
Всё падает на водный глянец
И кажется что дряхлый старец
Когда-то буйный печенег
Приник седою бородою
К спасительному роднику.
И растворяет боль водою.
Он много видел на веку.
Он в том тумане слышит топот
Гнедых оседланных коней.
И чудится, что конский пот
Ещё не смыт с тугих ремней
И что туман, только затишье
Пред битвой. И над страхом тел
Уже присутствует всевышний
Он строг и бледен будто мел.
А снег ложился на курганы
И с ним смешалась седина
Последний раз, припомнив раны,
Старик сказал: «Моя вина».
И вдоль туманных берегов
Мне кажется, бредёт старик.
Он в белой шубе, он велик,
Он память Киевских веков.
.
* * *
"Литературный институт
блудит жеманными поэтами..."
Эд Побужанский "ЛИТИНСТИТУТ"
Не получился, Эд,
Из Вас большой поэт.
И маленький поэт –
Не получился, Эд.
И стоит вряд ли тут,
Винить Литинститут.
.
с полдороги завернуть пол-дороги не отмеряв
таковым избрался путь
«крестик-нолик» "верь-не верю"
от себя бежать устав
радуешься каждой встрече с преломлением зеркал
потому что недалече
главное
как обзовёшь так и плавает по мира
луже правда это ложь будто суженый не милый
отхлебнув свои полста
начинаешь снова верить в совпадения зеркал
преданности на доверье
возвращаешься на бал с корабля
по сеньке шапку видно верно выбирал
с пол дороги без оглядки
На книжной полке за стеклом
Хранится толстый том,
А в томе том сидит фантом
С хвостом и животом.
В пространстве тесном и пустом,
Придавленный листом,
Сидит невидимый фантом
И думает о том,
Как хорошо часу в шестом
Под розовым кустом
Играть березовым прутом
С каким-нибудь котом.
Сидит фантом, зевает ртом,
Скрипит своим хребтом,
А в синем море золотом
Плывет корабль с винтом.