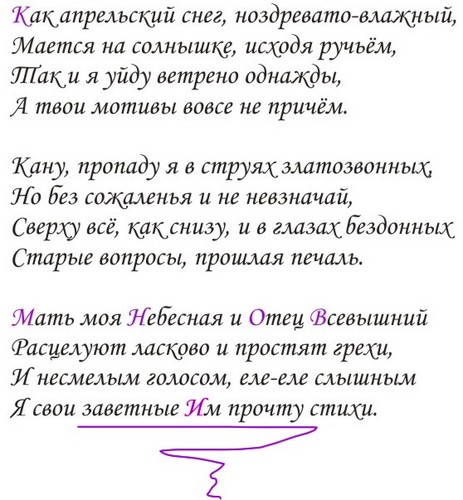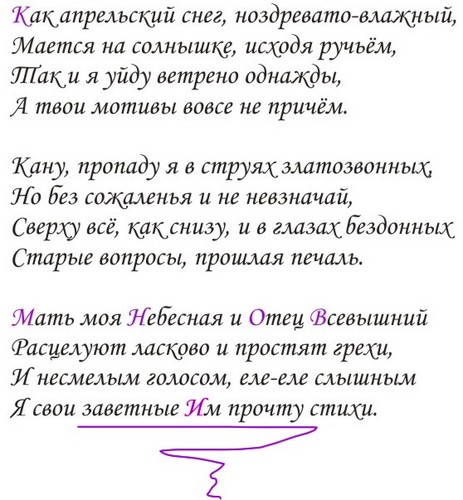* * *
Так, наверное, надо,
свой у каждого срок –
за железной оградой
только несколько строк.
Водяной пистолетик,
земляной бугорок:
на твоё шестилетье
вот он – Бог, вот – порог.
У судьбы не убудет –
для помина души
пьют солидные люди,
будто бы алкаши.
Будто прежде не знали,
что такое беда –
в кружках белой эмали
водка, словно вода.
Человечье наречье!
Неуклюжи слова...
Здесь и проще, и легче
отрастает трава.
И утешится нечем,
вот он – я, вот он – ты,
да от встречи до встречи
покупные цветы…
Уфа 07.2000.
В причёсках у сестёр не дремлют змеи,
но дремлют флегматичные часы.
Такое промежуточное время,
несчастная срединность полосы.
Омоем раскалённою слезою
бестрепетность обугленных камней,
чтоб кончились всеядность мезозоя
и жертвенность последующих дней.
Пусть отдыхают гордые авгуры,
наш инструмент страшнее топора,
и клацанье зубов клавиатуры
не тихий скрип гусиного пера.
В гранёных рифмах плещется цикута.
Проснулся смерч в размеренности слов.
С базуками родятся Робин Гуды.
В часах почти закончился песок.
Ну что произошло? Да ничего,
декабрьский ветер сдул с ладони осень,
и снег занёс холодное чело
Земли, как её не было бы вовсе.
Ну что случилось? Полно горевать,
Она с тобой... Вернее, не с тобою...
Да нет, – с тобой, кому дано прогнать
свою судьбу другой своей судьбою?
Ну, нет её, так что же из того?
Нельзя к ней подойти, обнять, – и только,
целуй былого чувственный огонь,
и втискивайся в глубь холодной койки.
Молись, – могло б и этого не быть,
порадуйся, что то, что сплыло – было,
что изо всех, кого б ты мог любить,
любил ты ту, что и тебя любила.
Теперь она святее всех святых,
теперь она, верна себе и мужу,
украдкою мнёт случайный нежный стих,
такой хороший и такой ненужный.
Что из того, что всё вот так, как есть,
что мир вот так, не очень ладно скроен,
что и любви кружащаяся взвесь
саму себя собою и укроет?..
Любовь – побег от будущей тоски.
Тоскуешь? Значит к новой путь проложен.
Не мучайся, забудь её, усни,
Наверное, она уснула тоже.
Конечно же, она устала ждать,
надеяться с тобой,смеяться, плакать.
Подкинет случай нищему деньжат,
но где сухое сыщешь в эту слякоть?
Скажи былому – милое, прости,
вернись в себя, спаси себя, опомнись,
последние – А может? - отпусти,
и не впускай украдкою – А помнишь?
Что из того, что ты не там, а здесь,
где нет её, и нет исходу желчи?
Она была, – вот истинная весть
в аду мужчин из рая женщин...
Как воздушный змей, отданный на волю,
По ветру весеннему, притяженья без,
Задыхаешься в большом невозможном слове.
По миру, как посуху. Под ногами – лес.
Мать моя пречистая, это ли не счастье.
Машет кто-то лапою, песенку поёт.
Чай ты наливаешь мне, ласковое “здравствуй”.
Из-за печки, важничая, выдвинется кот…
Я не знаю, правильно или нет на свете.
Сверху всё немыслимо, снизу – как во сне.
Глаз твоих мелодия, звуки чая эти
Говорят: “всё правильно, всё напрасно” мне.
С тобою мы, ночь, пока не знакомы,
но ты по-хозяйски входишь в дома,
в моих ненавистных, безумных хоромах
посудой гремишь, листаешь тома...
Потом темнота нальётся до крыши,
и станет весь мир колодезным дном:
небесная ветошь подальше, повыше
сияние спрячет за полотном...
Причудливый зов верёвкою с неба –
ладони ль в крови, на шее ль петля –
и то, и другое, конечно, нелепо,
однако проснусь не здесь и не я.
На рубеже – тысячелетий,
в пурпурно-золотом плаще,
сиял октябрь осенне-летний,
над – сущей мелочью – вещей.
Мешая краски – свет и тени,
очарование даря – он шёл,
по дням как по ступеням,
осеннего – календаря.
И был таким, каких не знали,
всё видевшие небеса.
В библейской, жертвенной печали,
стояли рощи и леса.
Являя суть земной природы,
светились – парки и сады.
Качали огненные воды,
листвой, зажжённые пруды.
Деревья трепетно как свечи,
сгорали – медленным огнём.
Бездомно было и не вечно,
в этом пространстве золотом.
Но – было и легко – и странно,
стране великих октябрей,
жить, в октябре фата-морганы,
без вероломных мятежей.
Ни красных не было – ни белых,
под небосводом синим-синим.
И — в третее тысячелетье,
казалось, верила Россия.
—
Когда-нибудь потомок спросит,
о главном, в нашей тыще лет.
И вечность даст ему ответ.
Была — неслыханная,
осень – 1999 года.
На безлюдном – просёлке,
с бесприютной тоскою,
я стою под дождём,
и уйти – не могу.
Рядом прячется степь,
за густой пеленою.
А я вижу тебя,
через годы,
и мглу.
По щекам бьют дождинки,
а мне, вспомнилось лето.
Ветер пахнет полынью,
чабрецом – и землёй.
Как, в замедленном кадре,
ты мне машешь букетом,
из таврических маков,
и — травы полевой.
Уходил, от тебя.
Навсегда и далече.
Жизнь ушла в никуда.
Как — вода — в решето.
Тает лето – как дым,
и сутулятся плечи.
Рвёт — как пёс,
мокрый ветер,
городское,
пальто.